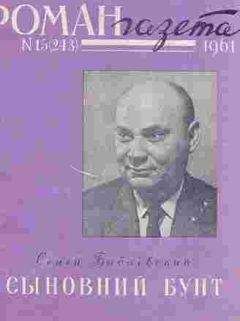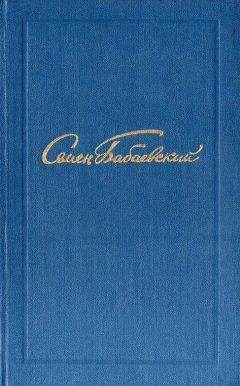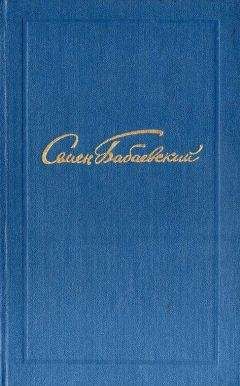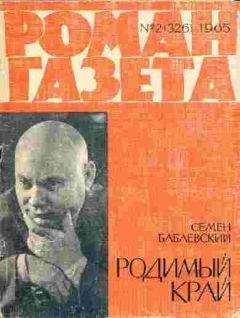Не нравилось Григорию и то, что Иван превратил отцовский дом в мастерскую и не только чертил там свои планы, а и рисовал смешные карикатуры; не было того дня, чтобы не являлись к Ивану разные зеваки. И еще не нравилась эта странная женитьба на дочке Закамышного… И кто может поверить, что Иван не мог найти себе жену в Москве и влюбился в эту сумасбродную Настеньку? Никто не поверит, потому что таких дураков нет… «Всем же видно, что это дурость, а не женитьба, — размышлял Григорий, открывая калитку и входя во двор отца. — Обесчестил девчушку, закружил ей голову, а теперь и не знает, как из этого горя выпутаться… Да еще и живут, как на смех, нерасписанные… Ох, и мудрец же ты, Ваня!.. Только гляди, братуха, домудруешься…»
Встретились братья холодно. Глубоко скрытая неприязнь стеной поднялась между ними, заслонила и родственные чувства и все то хорошее, что было у них в детстве. И хотя оба всячески старались поглубже запрятать эту неприязнь, делали вид, что им весело, даже улыбались, а глаза и лица их выражали скуку и душевную грусть. Пожимая брату руку и говоря, что рад его приходу, Иван взглядом своих усталых глаз говорил, что радость эта не настоящая, поддельная, и Григорий, понимая это, не удивлялся и не огорчался. Иван показал Григорию макет новых Журавлей, зная, что макет этот брату не нужен. Григорий же мысленно называл брата хвастуном, который и макет новых Журавлей показывал только для того, чтобы погордиться. Смотрел на улицы, на парк и делал вид, что работа Ивана ему нравится. И чтобы Иван этому поверил, Григорий своим толстым, пропитанным машинным маслом пальцем сперва тронул усики, а потом провел по главной улице и спросил:
— Славная игрушка! Только не вижу, Ваня, свое подворье… Где оно тут запряталось? Или оно своим видом не подходит к новым Журавлям? Сказать, всю красоту портит?
— Не туда, Гриша, смотришь… Вон твой домина!
Иван показал квадратный кусочек куги. Рядом с ним приклеена полоска картона — книгинская землянка. Трогая пальцем кусочек куги и соломинку, Григорий с грустью смотрел на макет и ничего не видел: взгляд затуманился, в голове собирались все те же давно пригретые им мысли, что главное в жизни — это собственность. Размышляя об этом, Григорий был убежден, что брат Иван в житейских делах — несмышленое дите, что ему никогда не понять; почему в одном случае человек ленится, работает с прохладцей, лишь бы день до вечера, а в другом — силы надрывает и так старается, что из-под земли достанет то, чего на земле еще нету… И Григорий приходил к тому выводу, что если бы Иван все это знал и понимал, то никогда не стал бы лепить эту свою детскую игрушку…
Все так же тоскливо глядя на макет, Григорий думал о том, что журавлинским жителям. ни к чему эта Видимая красота новых Журавлей и жизнь в городских двухэтажных домах. «Нельзя крестьянина лишать своего двора и своей хаты, — размышлял он, мысленно споря с Иваном. — Сельский житель — он как крот, привык жить один, и его не загонишь в общие дома… Дома будут общие, сказать, ничьи! Да они, Ваня, без хозяина и без присмотра в какие-то два-три года развалятся, потому что никакого стремления у людей не будет, и не годится им жить, как пчелам в улье…» Иван поглядывал на брата, хотел понять, о чем тот так задумался, ждал' вопроса, связанного с новыми Журавлями. Григорий заметил взгляд брата, усмехнулся в тонкие шелковистые усики и спросил:
— Братуха! Неужели ты веришь, что журав-линцы, лишенные по твоим чертежам домашности, своего двора, будут прыгать от счастья, как малые дети, когда им дадут комнаты?
— Ради этого вопроса пожаловал ко мне?
— А что? — Григорий улыбался, показывая мелкие белые зубы. — Вопрос, Ваня, сильно горячий, голыми руками его не трогай —; мигом обожжешься!.. Вот я глядел на твою затею и удивлялся: ну зачем нам эти городские жилища? Душа не примет. Это можешь понять? Гляжу на тебя, Иван, и думаю: сам ты — только не обижайся, я по-родственному, — порядочный чудак и людей наших дурачишь, батю злишь, людей бунтуешь, хочешь рай небесный в Журавлях сотворить… Пустая, Ваня, затея! Пойми, что человек — ты, я, все люди — от природы собственник, и никуда мы от этого не уйдем, и вытравить из нас это невозможно. Приглядись, человек только там старается, где есть ему в этом личная выгода… Твое, мое, богово — это уже отошло.
— Старая, Григорий, песня, — сказал Иван. — Только у ней не хватает припева: Америка-то на чем держится? На собственности. Хороший припев, а?
— Обойдусь и без этого припева… С Америкой я не пойду, не бойся, братуха! — Григорий с улыбкой смотрел на брата, слегка трогая пальцем усики. — Но вот ответь, ежели ты грамотный: почему наш «Гвардеец» так быстро разбогател и почему те семь колхозов так сильно бедствовали? Вот тебе настоящий припев к старой песенке!
— Смешной же ты, проповедник собственности! — с улыбкой сказал Иван. — Но известно ли тебе, Гриша, как далеко отстали в культуре и в быту жители деревни от горожан? И если ссылаться на какой-то свежий пример, то самыми подходящими будут наши знаменитые Журавли… Общественное богатство выросло, материальная жизнь стала неузнаваемой, а загляни в землянку… Что там увидишь? Срам и стыд… Человеку так жить нельзя…
— Хочешь сказать, — перебил Григорий, — хочешь сказать: в тех землянушках живет бескультурье, так сказать, идиотизм деревенской жизни?.. Так говорил Карл Маркс? Слыхал, Ваня, знаю… В политкружке изучал, так что не думай, что я дурак дураком… Но того идиотизма лично в наших Журавлях давно нету: изжили! У нас есть крупное коллективное хозяйство!.. Мы это тоже изучали…
— То, что ты в политкружке обучался, хорошо…. И дело тут, разумеется, не в идиотизме — не туда махнул. Дело, Григорий, в том, чтобы в такое богатое село, каким являются Журавли, пришла и прочно утвердилась городская культура… Но беда, что в журавдинских лачужках, построенных еще нашими дедами, с низкими потолками и с земляными полами, гнездится такая старина, что диву даешься, как все это уцелело и сохранилось. И пока эта беда сидит в том жилье, радоваться, Гриша, рановато…
— Меня поучаешь? — Григорий рассмеялся. — Я сам только вчера выкарабкался из той землянушки…
— Тем лучше… И обязан понять, что не в том радость, что ты и десяток таких, как ты, выстроят дома и станут этим гордиться, а в том радость, чтобы все колхозники имели приличные бытовые условия — не худшие, скажем, чем у рабочих… Я не против того, чтобы журавлинцы хорошо зарабатывали и чтобы «Гвардеец» и в будущем богател и был бы первым миллионером в районе. Но в каких неприглядных условиях живут хозяева этих миллионов — вот о чем пришла пора подумать… Честное слово, и стыдно и обидно колхозникам «Гвардейца» шить в таких условиях! И я должен тебе сказать, братуха: хочешь ты, Григорий Книга, или не хочешь, а тем журавлинским землянушкам, в которых, к сожалению, еще ютятся колхозники, приходит конец…
— Ну, ладно, пусть приходит конец, оставим, Ваня, эти разговоры… А то еще подеремся! — Григорий не хотел ссориться с братом, думал о той просьбе, ради которой пришел, и поэтому дружески, ласково взглянул на вдруг помрачневшего Ивана. — Удивляюсь, Ваня! Одного мы с тобой батька и одной матери дети, а как сойдемся, так и начинаем спорить и не можем понять один другого… Ну, не дуйся! Шут с ним, поживем — поглядим, кто из нас прав, а кто виноват… Как, Ваня, движется твоя женатая жизнь?
— Хорошо движется, — сухо ответил Иван.
— А где же Настенька?
— На работе… Уехала на канал.
— Ах, да! Я и позабыл, что она хозяйка воды. — Григорий приблизился к Ивану. — Ваня, есть к тебе маленькая просьба…
— Говори, чем могу помочь.
— Помощь, сказать, пустяшная… Требуется небольшой чертежик…
— Что за чертежик и зачем он тебе?.
— В том-то и суть, что не мне, Ваня, а Ялот нику Аксенову. — Григорий замялся и, не зная как лучше объяснить брату смысл своей просьбы кашлянул, шумно глотая слюну. — Тут, Ваня, та кое дело… «Москвич» у меня — ты знаешь деньги за него отданы большие, а скоро зима куда его приютить? Погибнет же такая ценность
— Дедову землянку вздумал ломать?
— Да ты что? Зачем же ее ломать? — оживился Григорий. — Нет! Ломать не буду! — И с доверительной улыбкой: — Я не такой, как ты! Хочешь все журавлинские землянушки изничтожить, а я и одну истреблять не хочу… Уберу единственную стенку, что выходит на улицу, а на ее место поставим ворота такой ширины, чтобы мог в них въехать «Москвич». Вот и все дело! Пустяк, з плотник Аксенов без чертежика не может… Побаивается, как бы потолок не рухнул… Так что, Ваня, как брата прошу, уважь и составь ему тот чертежик…
— Ты что, Григорий, дурачком прикидываешься? — в упор спросил Иван. — Или уже позабыл наказ отца?
— Какой наказ? — искренне удивился Григорий, выпрямился и сдвинул брови. — И ты хочешь в той землянушке музей сотворить? Людей с батей хотите смешить своим музеем? Кому он нужен?