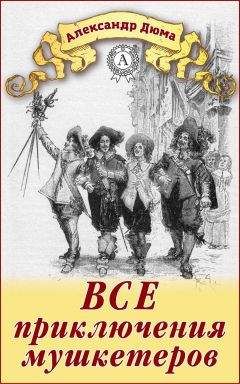Стрелка спидометра дрожит около цифры двадцать, при такой скорости он едва ли доберется до четверки раньше, чем через три часа. Спать перехотелось, и даже маятниковое покачивание «дворника», смывающего с лобового стекла клейкую изморозь, уж не укачивает, как в начале пути.
Луна скрылась за облака, и простор обрезался по обе стороны дороги. Впереди, там, где обрывался свет фар, дорога упиралась в черную стену ночи, и казалось — машина разобьется об эту непроглядную, твердую тьму. Но стена не давала приблизиться к себе, она отодвигалась все дальше и дальше, и дорога наращивалась ей вслед, будто рождаемая светом фар. Порой из черного небытия на обочину выпрыгивали то куст, то дерево, то старый, полусгнивший верстовой столб и, просуществовав краткий миг, исчезали.
Зеленая, в замерзших круглых капельках, еловая лапа повисла над дорогой, заиграла радужными переливами, но вдруг погасла и, темная, грузная, тяжело охлестнула лобовое стекло, просыпала на капот стеклянную хрупь и сгинула. Машина вошла в лес, и, отмахивая стволы и ветви, двинулась по лесному коридору. Ветки скребли кузов и дверцы машины, царапали крышу, колотили по колесам; в мерный, привычный гуд мотора, казавшийся водителю тишиной, нагло и настырно ворвался шум посторонней жизни. Лицо его покривилось досадой. Оберегая свое одиночество и непричастность ко всему, что за окнами кабины, он прибавил газу и, когда стрелка спидометра скакнула вверх, включил пятую скорость. Машину стало кидать, нарушившаяся устойчивость добавочной болью отозвалась в его теле, но шорох ветвей утишился, все внешние звуки стали мельче, чаще, дробнее, и он почти вернул свою тишину.
Наконец лес остался позади, Бычков сбавил скорость, и ход машины стал вновь натужлив и ровен. Затем по возросшему давлению на спину он почувствовал, что дорога неприметно пошла под уклон. Желтые лучи фар поголубели и съежились, в них заклубился туман. Он переключил фары на ближний свет, будто подобрал его под передние колеса машины. Туман реял от самой земли, и глубокие борозды, бугры и рытвины разбитого грейдера, окутанные голубоватой волнующейся дымкой, казались живыми волнами реки. По обеим берегам той реки, навстречу машине, побежали белые, похожие на карликовых человечков, каменные столбики. Туман заклубился еще гуще, и настоящая, невидимая за ним река метнула под колеса машины гулко и мягко проседающие доски деревянного мостка. Машина одолела бугор и вырвалась из тумана в чистую бархатную тьму. Впереди возникли огни деревни, Бычков переключил свет, и длинный луч серебром растекся в темном окне ближней избы.
Несмотря на холодный, не морозный даже, а знобкий, как то нередко бывает в стык осени и зимы, ветреный, неприютный вечер, молодежь гуляла. Прямо посреди улицы шли танцы. Шум мотора заглушал музыку, тьма скрывала баяниста от глаз Бычкова, и странны были ему эти, как во сне, кружащиеся под неслышную музыку пары. Выхваченные из мрака фарами, они будто не замечали, что на них надвигается громада грузовика, они все кружились и кружились, будто были бесплотными духами, сквозь которые грузовик мог пройти, как сквозь туман. Бычков нажал на кнопку сигнала, и громкий, долгий, унылый звук прорезал ночь. Пары неохотно расступались, иные выпархивали из-под самых колес грузовика, когда Бычков уже не видел их за прямым срезом капота, но никто не прекратил танца, не оборвал плавного, зачарованного кружения.
«Вот скаженные!» — усмехнулся про себя Бычков, расправил тело, с хрустом зевнул и вспомнил, что под сидением лежит непочатая четвертинка водки. Это его обрадовало, хотя пить ему сейчас не хотелось. Просто было приятно знать, что она лежит там, холодненькая и скользкая. Ну и пусть пока полежит. Он достал из кармана мятую пачку «Прибоя», встряхнул, вынул зубами папиросу, чиркнул зажигалкой, закурил.
Машина подошла к околице, и справа на дороге мелькнула фигура женщины с поднятой рукой. По сути только эту белую, отчетливо выделяющуюся в ночи руку и успел увидеть Бычков. Он резко затормозил, но его протащило еще на добрый десяток метров вперед. Прошло время, пока женщина добежала до машины.
— Подвезете, товарищ водитель? — услышал он запыхавшийся голос.
Бычков высунулся из кабины. Темно, но все же он сразу увидел, что женщина молода, лет двадцати пяти, не больше. Взгляд его привычно пробежал вверху вниз, ощупав и оценив выбившиеся из-под платка светлые волосы в искринках снега, постекленевшие от ветра и холода, чистое круглое лицо, тугую грудь, сдавленную жеребковым жакетом. И он недобрым голосом сказал:
— Садись!..
Когда женщина взбиралась на высокую ступеньку, предварительно кинув в кабину две связанные узлом, туго набитые авоськи, он увидел круглое, обтянутое шелковым чулком колено и высокий черный резиновый ботик. Ишь вырядилась!
Женщина наконец уселась, пристроила в ногах свои авоськи и счастливо выдохнула:
— Надо же — как повезло! Я уж и не надеялась нынче на четверку попасть! — И вдруг испуганно Спохватилась. — А вы на четверку едете?
— На нее самую.
Теперь Бычков разгадал причину своего недоброго чувства к этой незнакомой женщине: чем-то она неуловимо напоминала Тосю. Ни в чертах лица, ни в фигуре не было сходства. Тося выше, худее, темноволосая, большеглазая, большеротая; эта — подбористей, короче и крепче статью, черты лица мелкие, точеные: маленькие нос и рот, небольшие светлые глаза, светлые волосы. Пожалуй, лишь спокойная круглота овала была у них общей. Но дело не в том. От этой женщины сразу же повеяло на него Тосиной определенностью и прохладой, исключающей короткость. То, что она даже не взглянула на него, устраиваясь в кабине, что в ее словах и жестах не мелькнуло никакой игры, естественной при знакомстве молодой женщины с молодым мужчиной, даже в той пренебрежительной бесцеремонности, с какой она задрала ногу на ступеньку, проглядывал характер независимый — и вместе узкий и неглубокий — Тосин характер…
Он тронул машину с места. Женщина чуть приподнялась и расправила юбку, чтоб не помять. На ее круглом спокойном лице отразилась обычная ублаготворенность путника, наконец-то поверившего, что движется к своей цели.
Бычков ждал, что она о чем-то спросит его, ну хотя бы: откуда, мол, держишь путь или когда доберемся до четверки, — но женщина молчала и даже не глядела в его сторону. И в этом было что-то от Тоси, от Тосиной душевной скупости. Недаром в пору детства и юности хватало с нее его дружбы, она даже не заводила подруг.
— А вы что — живете на четверке? — спросил Бычков.
— Ага! — кивнула она, не поворачивая головы.
— Местная?
— Нет, мы с Тихвина.
— А сюда как попали?
— Как все — нанялась.
— Замужняя?
Женщина отрицательно мотнула головой.
— А гуляешь с кем? — переходя на «ты», спросил Бычков.
— Еще чего! Я не для гулянок сюда ехала.
И в этих ее словах не было никакой игры, ни намека на кокетство.
— А для чего ж ты ехала? — спросил Бычков.
— Для чего все, для того и я, — сказала она упрямым голосом.
— Башли, что ль, зашибать?
Женщина не ответила, но Бычков понял, что угадал. И он почувствовал свое превосходство над этой опрятной, нарядно одетой, знающей себе цену женщиной: его-то мало интересовали заработки.
— На приданое копишь? — усмехнулся он.
— Может, и на приданое, — ответила она с вызовом.
— А где работаешь-то?
— В магазине.
— Ну, этак ты быстро скопишь, — сказал Бычков.
Она не отозвалась, спокойно и неподвижно глядя перед собой.
Бычков постарался представить себе ее будущего мужа. Он рисовался ему вроде Тосиного агронома: немолодой, хлипкий, узкотелый тип в очках. Почему-то такие вот крепкие, самостоятельные, всерьез строящие свою жизнь девчата любят брать в мужья солидных, городских людей с образованием. «Ведь не пойдет она за такого простого, скромного парня, как я», — думал Бычков, забывая, что давно перестал быть простым и скромным. Впрочем, он глядел на себя сейчас глазами своей спутницы, которой неведома его нынешняя худая жизнь и худая слава. И ему остро захотелось насолить этому агроному, вечно становящемуся на его пути, этому вкрадчивому тихоне, отбивающему лучших девчат у настоящих боевых парней.
— Ну, такую кралечку и без приданого возьмут! — сказал он и, сняв руку с баранки, умял ватное плечо женщины.
Быстрым движением, словно ожидая этого, она откинула его руку. Он ухватил ее под локоть, потянул к себе. Она вырвалась и, когда он повторил попытку, взяла его за пальцы и, заломив их довольно больно, отвела и положила на баранку.
— Эк тебя разымает! — сказала она без особой, впрочем, обиды. — Выпимши, что ли?
— Нет! — усмехнулся Бычков. — Хорошо, что напомнила!
Притормозив, он нагнулся, нашарил в обтирочном тряпье холодную, как льдышка, четвертинку, достал ее и, стукнув донышком о колено, вышиб пробку.