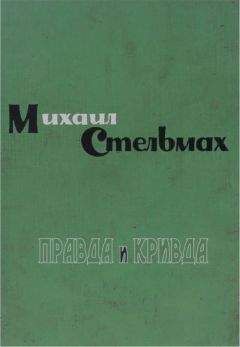У самой дороги закричал перепел, потом чего-то испугался и, убегая, зашелестел ржами. Марко улыбнулся невидимой птичке, отгоняя от себя докучливую повседневность. Над ржами, которые сейчас покачивал не столько ветерок, сколько роса, уныло стелились девичьи песни, и прозрачная темень тихим веянием переплескивала их с поля на поле, как погожая година переносит пыльцу хлебов. Сколько же, человече, тебе надо жить-работать с людьми, чтобы и хлебом, и жильем были обеспечены они и чтобы на вечерних мостах не тосковали песни, а встречалась любовь? А будет же это все! И мосты счастья встанут по всей земле.
Марко с кроткой приязнью, как в молодые годы, подумал о тихих, сельские мостках, потому что до сих пор любил их, и вербы над ними, и калину под ними, мяту и белозор над водой, и звезды в воде, которые раскачивает даже мелкая верховодка. Он лишь в детстве немного боялся мостков в поздний час, потому что под ними, говорили старые люди, водились черти и всячески издевались над селом. Ну, это было еще до революции. А после уже не стало ни чертей, ни водяных, ни упырей, ни ведьмовского рода, и вообще всякая нечисть сыпанула своей последней кривой дорожкой аж в бюрократию. Бедного черта и дядька мог обмануть, а чертов бюрократ всех одурачивает, бьет под сердце все святое и сухим из болота вылезает. Даже война не стащила его с проклятущего логова. Если кто пеняет, бюрократия даже прикрывается ею:
— Ничего не поделаешь, война прошла.
Марко снова остановился перед ржами в долинке. Здесь они были лучше, чем на бугорках, и цвет на них был гуще. Ничего в этом году озимь, а яровые стоят зеленой рекой. И дожди майские прошли, как золото. Будто все указывает на урожай. Ой, как он сейчас нужен людям: пусть за все годы злоключений у них на столе тепло ляжет добрый хлеб. Лишь бы снова не вернулись дополнительные налоги: разные встречные и разные добровольные, от которых сердце болеет. О них и в газете могут вон как написать, а земледелец снова будет сидеть на картофеле и в поле не будет выходить.
Эх и расплодилось же хозяев возле мужицкого хлеба, а одного, истинного, нет. Как работать на земле — ты хозяин до самой молотьбы, а как хлеб делить — ты уже становишься поденщиком. Но кому об этом скажешь? Наедине посочувствуют тебе, все трудности вспомнятся, а заикнешься где-то на совещании — вражескую вылазку пришьют. Вот и молчи, глухая, чтобы меньше греха. Только и надежды, что как-то все изменится, найдется-таки кто-то, кто не только будет планы спускать и говорить «канай», а разберется в этой путанице, поможет крестьянину и сердечным словом, и святым хлебом. Как у нас некоторые научились копейками прижимать мужика, а на этих копейках теряются добрые миллионы и человеческая вера.
За ржами фиалково светился и дышал легким туманцем ранний пар. Марко остановился перед его разливом, сорвал несколько стеблей сурепки и призадумался. А что, если здесь сейчас посеять скороспелый горох? Зачем должна зря гулять земля? А так что-то уродит людям, и сама обогатится.
«И почему раньше такое не пришло в голову? — аж рассердился на себя. — Завтра же пусть Василий Трымайвода ищет семена. Хорошо, что за редиску и лук завелась копейка в кассе».
С этими мыслями Марко подходил к прогнутому мосту, над которым корежились старые вербы с подмытыми корнями. И пусть ветры и вода, как в прощании, разъединяли или бросали их в скорбные объятия, и пусть время и война уже выбрали, выпалили их души, но они еще с любовью к миру поднимали вверх зеленые руки и давали приют птицам в дуплах или в зарубцевавшихся ранах. Под вербами, как сама юность, кружком стояли девушки и вели свои печальные песни:
Жалі мої, жалі,
Великі, немалі,
Як майова роса
По зеленій траві.
Як вітер повіє,
То росоньку звіє,
А моє серденько
В тяжкій тузі мліє.
Майская роса без ветра капала из склонившихся верб на девушек, которые пели не песню, а свою жизнь, потому что разве было здесь хоть одно сердце, которое не млело в тяжелой тоске? И никто, никто, разве только время развеяло эту тоску.
Марко унылым взглядом вбирал легкие девичьи фигуры, милые, доверчивые и такие обиженные войной лица; они трогательно играли той прозрачностью и таинственностью, которую умеет навевать лунное марево.
Мужчина ощутил, как возле него голубями звенели юные души, звенели ожидания и любовь… И мир изменился в глазах Марка. Может, он подходит не к обычному натруженному и луной завороженному мосту, а к порогу своей далекой юности, когда так же после войны девушки пели печальные песни, а луна так же, как любящая мать, красой окутывала даже тех несчастных, которые и на Пасху не выходили из полотна. И жалко стало Марку и своих далеких лет, исчезнувших за лунным туманом, и этих девочек, на утлых плечах которых до сих пор лежало непосильное бремя войны. За добрых мужчин и за себя трудятся они от зари до зари, и не одна из них заплачет на чужой свадьбе, не дождавшись своей. А ты, человече, ничем не сможешь помочь этой юности, к которой из-под моста белыми руками тянется калиновый цвет. Наибольшее, что ты можешь сделать, — это найти для них человеческое слово и так вести хозяйство, чтобы выгнать бесхлебье и бедность из человеческих жилищ и чтобы с сорока женских лет не выглядывали тени старости.
Но и для этого следует отдать все, что имеешь. Теперь это не так уж и мало, потому что когда где-то за морями чья-то спесивая судьба разжиревшими на тушенке пальцами считала деньгу, в это время наша голодная, измученная, но свободолюбивая судьба крушила железную шею войны. И сокрушила, господа, хоть и не очень вы этого желали. Теперь вы немного удивляетесь, а больше хватаетесь за наши некоторые неумения или несовершенство и грешными речами наводите тень на само солнце. Что бы вы запели, если бы сами хоть месяц посидели в войну на нашей воде и беде?
Страстная душа Марка уже обрушилась на служителей зла и кривды, которые не в чернила, а в наши раны начали макать свои отравляющие перья. Аж кулак сам по себе сжался, и к нему приклонилось нежное, с росой калиновое соцветие и сразу повернуло мысли к тому, что было более близким и более дорогим человеку.
Как раз замерла песня, хотя отголосок ее еще звучал над полусонным полем. Девушки, увидев председателя, теснее сбились в кружок, а печаль спетого и дум лежала на их лицах, словно из далекого сна выхваченных.
— Добрый вечер вам, девочки. Как славно пели вы, только очень печально. Чуть более веселой не могли?
Девушки молча переглянулись, кто-то тихо вздохнул, и нежданно упрямо и с болью заговорила Ольга Бойчук.
— Не могли, Марко Трофимович, никак не могли, и не вам об этом спрашивать.
— Почему же не могли? — Марка удивил не так сам ответ, как какая-то бесшабашная решительность в голосе вдовы. — Недавно же ты что пела в районе на сцене?
— Так то на сцене, Марко Трофимович, — с укором ответила девушка, дескать, как этого не понимает их председатель. Гибкая и настороженная, стояла она под темными вербами и лунной мглой, как на сцене. Таки не зря Ольгу называют артисткой. — А мы поем сейчас для себя, только то, что в душе щемит.
— Неужели там одна печаль?
— А где же той радости взяться? — аж задрожала Ольга. — И вам живется не на сладком меду — на голом пожарище выбиваетесь из несправедливости. Но вы терпите все. Терпим и мы свое горе. Вашему — помочь можно, а нашему никто не поможет.
— Да, в одном никто не сможет, — и девушки аж встрепенулись, что он понял все недосказанное, мучительное и, видно, не равнодушен к их горькой участи.
— А нам же, дядька, любить хочется, — с глубоким доверием зазвенел низковатый голос Галины Кушниренко. — Такой мир вокруг хороший, будто живописцы рисовали его.
И солнышко, и эта луна такие, что только бы смотреть и смотреть на них, идти с кем-то под ними, так ребят совсем нет… Как нам не хочется без свадьбы на всю жизнь остаться вдовами.
В глубине Галининых глаз он увидел горькое ожидание любви и материнства и боязнь, что их уже не дождаться. Большая трагедия женщины-страдалицы стояла перед ним в облике обыкновенной чистой девушки, к которой белыми руками тянулся калиновый цвет.
«Дети мои дорогие», — хотелось прижать к себе эти милые, доверчивые головки, прошептать какие-то добрые, успокаивающие слова. Но что даст такое утешение? Разве за тем крестьянским рассуждением, выраженным в словах «как-то оно будет», не крылась бы фальшь?
Перед ним еще, как в полусне, проплыли девичьи фигуры, и мост, и в скорбнопрощальных объятиях две вербы, и кусок речушки с чистой водой, просвеченной сверху и снизу луной. И все казалось бы таким полусном, если бы до сих пор не звенел в душе голос Галины: «А нам же, дядька, любить хочется…»
«Будьте же прокляты навеки убийцы детей и материнства, убийцы рода человеческого и земной красоты!» В болезненном порыве, уже видя перед собой и далекие миры, Марко наклонился к Галине, молча приласкал ее, повернулся и, как позволяла нога, быстро пошел дорогой к колхозной конюшне.