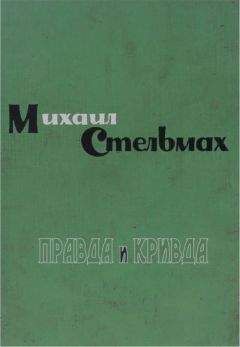— Что-то ты загадками заговорил.
— Начну проще. Скажите, Степан Петрович, как вы понимаете любовь?
— Оставь, Марко, свои шутки! — весело наморщился мужчина. — Ты еще через двадцать лет задай мне такой актуальный вопрос, когда я уже с печи не смогу слазить. Ну, что хитришь? О твоих некоторых фокусах я больше слышал, чем ты думаешь. Еще не всыпали тебе хорошо по одном месту?
— Кому из нас не перепадает по тому месту? Так не хотите, сказать, что такое любовь?
— Лучше тебя послушаю, ты же младше.
— Пусть будет по-вашему, где мое ни пропадало. Любовь, я себе мыслю, — большое дело!
— Да ты ба, какое открытие! — засмеялся начальник тюрьмы. — Ты это с какой-то трибуны скажи, осчастливь людей.
— И скажу! — загорячился Марко, румянцы на его щеках начали подползать к неровной подковке усов. — Что случилось бы с человеком, если бы у него какой-то нехороший чародей забрал любовь? Стала бы она двуногим животным, а может, даже и тварью. И недаром уже при капитализме были Ромео и Джульетта.
— Еще раньше — при феодализме, — поправил Дончак, — уже с любопытством слушая Марка.
— Вот видите, даже еще до капитализма так любились люди, — будто обрадовался Марко, хотя нарочно перепутал формации, чтобы лучше втянуть в разговор Дончака. — Но тогда все было проще: не было таких страшных войн, как теперь, и потому больше было и джульетт, и ромео. А кто теперь напишет о такой любви, когда есть Джульетта, но некому ее любить? Это не только девичье горе, а, если подумать, и государственная беда, потому что уменьшается в ней любви. Не так ли мыслю?
Степан Петрович пожал плечами и развел руками:
— Думаешь ты, Марко, так, но к чему все это ведешь — никак не пойму.
— К чему я веду? К самому простейшему: что к девушке и теперь непременно должен ходить парень, ворковать ей что-то, как голубь, шептать в одно ухо правду, а в другое, может, и привирать…
— Зачем же привирать? — насторожился Дончак.
— А разве же вы когда-то не привирали своей, что она лучшая на свете?
— Ох, и хитрый ты черт! — расхохотался Дончак. — Даже я за такое преувеличение. Хорошо прядешь свою нить, только что шьешь ею?
— Это уже зависит от вас. Надо, чтобы жизнь кружила, как жизнь: чтобы вечерами молодые любовался и звездами, и вербами, и дорогами, надо, чтобы парень девушку прижимал к себе и руку ей клал на грудь и чтобы потом к этой груди тянулось дитя и засыпало возле них, как и мы когда-то засыпали. Тогда наши дети будут расти спокойными, кроткими и добрыми, а не истерическими сиротами, которых горькая любовь или баловство подкидывали под чужие двери. Это я говорил в широком масштабе, а теперь хочу о девушках своего села. Чахнут они без любви. Так отпусти мне, Степан Петрович, тех ребят, которые имеют небольшую и не очень плохую статью.
— Вот так вывел концы! — оторопел Дончак. — Да в своем ли ты уме, мужик, или ты с похмелья приехал ко мне!?
— Я при своем уме, а во рту и росинки не было, — ничуть не смутился Марко. — Так не дошла до вас моя слезная просьба?
— Нет, это невозможно. Это неслыханно по своей смелости и, извини, наглости! — Дончак встал со стула, прошелся по кабинету и остановился перед Марком, укоризненно покачивая головой.
— В самом деле, это неслыханно, — согласился Марк, — но, если подумать, возможно.
— Как ты все быстро и с плеча решаешь, — поморщился Дончак. — Скис уже?
— От этих слов и молоко скиснет.
— Ну, предположим, я пошлю в твой колхоз нескольких арестантов…
— Не арестантов, Степан Петрович, а уже освобожденных и равноправных граждан, которые должны честной работой отработать свои сякие-такие грешки, — деликатно поправил Марко.
— Пусть будет так: свободных и равноправных, — почувствовалась насмешка. — И ты скажешь им, что они из тюрьмы сразу же попадут в женихи? Не принизишь ли ты этим свое чудное намерение и не многовато ли даешь чести новоиспеченным женишкам?
— Что вы, Степан Петрович! О нашем намерении никто, кроме нас, вовеки не будет знать. Это же такая деликатная вещь. Просто я беру ребят работать в колхоз ровно на такое время, какое они не досидели здесь.
— А потом половина их разбредется по своим домам.
— В добрый час. Но кто-то останется и в нашем селе. И радость познает от честной работы, и под звездами свою любовь найдет, и свадьбу справит.
— Нет, нет, Марко, это совсем не типично, как пишут некоторые критики.
— Не типично, но дети типичными будут. Вот увидите на чьих-то крестинах.
— Агитатор, где ты взялся на мою голову? Разве таким способом ты решишь этот вопрос?
— Конечно, нет. Но если даже одному человеку мы сделаем добро, то это будет добро!
— Нет, нет, Марко, я не могу этого сделать.
— Почему же не можете? — спросил с просьбой и болью. — Добро же, а не зло в ваших руках.
— Это добро называется превышением власти. Думаешь ты об этом своей горячей головой?
— Пока что думаю. И хоть каким я был небольшим начальником, где мог — превышал свою власть. И главное, почти никто не порицал меня за это.
— Ты можешь! Ты и не такое можешь, сегодня уже доказал, — оживился Степан Петрович. — И как это выходило у тебя?
— Когда я был председателем колхоза, то превышал свою власть и по пшенице, и по ржи, и по сахарной свекле, а проса собрал больше всех на весь район — об этом превышении и в газете писалось. Вот и ты, Степан Петрович, превысь свою власть.
— Ох, и хитрец ты, Марко, каких мало на свете есть! Куда загнул!?
— Однако же на добро или на зло я загнул?
— Кто его ведает, — призадумался Дончак. — Не знаю, если послушаться этого совета, как оно выйдет у тебя, а у меня — плохо. Подведешь ты меня под монастырь.
— И вам будет хорошо, — убедительно сказал Марко. — Это столько же людей потом с признательностью будут вспоминать старого котовца Дончака.
— Ох и лисица же ты! — покачал головой начальник тюрьмы. — У тебя что ни слово, то новая хитрость. Послушать тебя, так мне после смерти еще и памятник поставят за это дело.
— Едва ли какой-то начальник по вашей профессии заслужит такой чести, потому что профессия ваша, извините, не имеет перспективы роста.
— Убил, убил ты меня, Марко! — улыбнулся Дончак, а в морщинах под глазами, в глазах и кустистых бровях шевельнулась боль. — Ты, может, думаешь, я вприпрыжку бежал на эту должность, чтобы не иметь перспективы роста?.. Я, поверишь, плакал у секретаря окружкома, как ребенок. А мне сказали одно: так нужно… Еще какие имеешь, сват, претензии ко мне? — И словом «сват» он сам себе облегчил боль и уже с некоторой насмешкой посмотрел на этого странного, с неровной подковкой усов мужчину.
— Претензий нет, — душевно ответил Марко. — Разве я не знаю, что ваша работа радости не кладет на сердце? И очень порядочным надо быть человеком, чтобы не отупеть от ежедневной людской подлости и страданий. Я до сих пор не могу забыть следователя, который вел мое дело в тридцать седьмом году.
— Черноволенко? — в хмурой задумчивости прикрыл тонкими веками глаза.
— Черноволенко. Ох, и упорно же допрашивал он меня, с огоньком. Непременно хотел прицепить мне ярлык врага народа. После первых допросов он уже не говорил со мной, а визжал, ворчал, грозился, матерился, ревел. Все на испуг брал. И таки перепугал однажды.
— Кулаками?
— Нет, мелочностью, тупостью души и ума. А кулаками или танками сам черт, где-то, не испугает меня, — стреляный я уже воробей.
— Ну-ка расскажи, Марко, и об этом.
— Для чего?
— Как-то слышал краем уха, что Черноволенко из эвакуации снова приезжает сюда. От фронта открутился. Рассказывай.
— Да невеселая это история.
— А мне мало приходится веселое слушать.
— Ночью вызывают как-то к нему. Иду — качаюсь. На столе у Черноволенко вижу котомку из своего дома, две буханки, что-то завернутое в белую материю, масло, наверное, несколько раздавленных головок мака — как раз Маккавей был, и крошечный, с грецкий орех, узелок. Догадываюсь — передачу принесли. Мать даже о маковниках не забыла, знает, как я их люблю. Вспомнил я дом и ощутил, что слезы покатили не по щекам, а вглубь. Жаль мне стало и себя, и матери, и жены, и дочери, и даже этих маковок из нашего огорода, которым Черноволенко провалил головки, выискивая в них записку или какого-то беса. Вот он подошел ко мне, холодный, словно кладбищенский камень, с круглыми проржавленными румянцами на щеках, показывает маленький узелок:
— Подсудимый, что это такое?
— Не знаю, сквозь материю еще не научился видеть.
— Научим, — многозначительно пообещал мне. — А пока что так посмотри. — Развязал узелок, и в нем я вижу, спасибо домашним, комочек родной земли.
— Ну, что это? — спрашивает меня, надеясь на чем-то поймать.
— Земля, — отвечаю и наклоняюсь к ней, чтобы поцеловать. Но Черноволенко молниеносно отдергивает руку и еще с большим подозрением прощупывает меня взглядом: не подумал ли глупой головой, что я хочу проглотить какой-то условный знак или документ.