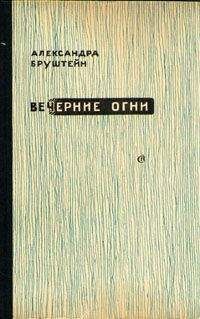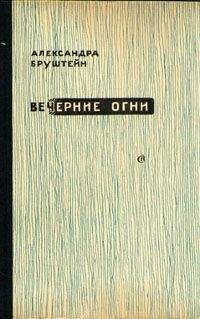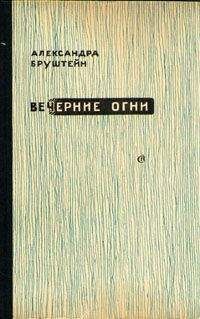Я слушаю все это вполуха. Слышанное и переслышанное. Я уже тоже начинаю понимать, что нужны не митинги, не восторженные речи, не ликующее пение «Марсельезы» и «Варшавянки», а что-то другое. А вот что именно — не знаю… Скорее бы возвращался муж, — он-то, наверное, знает все!
Мне уже даже немножко стыдно вспоминать, как еще сегодня утром мы шли с Михаилом Семеновичем и Соней на митинг. Перед уходом мы вооружались. Михаил Семенович положил в карман револьвер, браунинг, так спокойно, так уверенно, как человек, отлично умеющий стрелять. У меня тоже есть небольшой револьверчик «Смит и Вессон», подарок мужа к недавнему дню рождения. Стрелять я не умею, выстрелов боюсь до смерти, даже в театре! Совсем как моя бабушка! Когда к папе приходил в гости знакомый военный, оставлявший в передней свою шашку, бабушка нас остерегала:
— Деточки! Не ходите в переднюю, там шабля!
— Бабушка, да это ж холодное оружие, не страшно!
— А кто его знает? «Холодное», «горячее» — все равно может выстрелить!
Одно время — недавно, в сентябре, — мы уходили с мужем в поле и упражнялись там в стрельбе… Страшная вещь, как бездарно я стреляю! Да и револьверчик мой какой-то игрушечный, стреляет так туго, что написать с человека портрет легче и короче, чем выстрелить в него из моего «Смит-Вессончика»! Уходя сегодня на митинг, я, конечно, — положила его в карман пальто, но даже не представляла себе, как это я вдруг выстрелю в живого человека! На всякий случай я положила в другой карман кожаную плетку, висящую у нас на гвозде в коридоре для устрашения собаки Мики. Это казалось мне подходящим, — если на нас нападут черносотенцы, я смажу которого-нибудь из них плеткой по физиономии: не лезь в другой раз, куда не зовут!
Да… А черносотенец-то оказался хладнокровнее и смелее, чем я: очень спокойно прицелился в голову моего ребенка и швырнул камнем!
Вот так и пошли мы на митинг, вооруженные, но не предполагая пускать в ход оружие. А главное, мы были такие счастливые дураки, такие торжествующие идиоты! Четыре версты от Колмова до города оказались неожиданно тяжелы: после осенних дождей глинистая дорога раскисла, ноги разъезжались в разные стороны, калоши с каждым шагом облипали вязким глинистым тестом, казались огромными, тяжелыми. А мы хохотали, веселились…
Слова Сударкина Козлову: «Ты что думаешь — сразу конец лиху, ура, победа, так? Не-е-ет, милые, городовой и тот перед нами еще не завтра посторонится!» — напомнили мне одну подробность нашего утреннего путешествия на митинг. Когда мы уже вошли в черту города, Соня Морозова показала на постового городового:
— Давайте приветствуем фараона, а? Споем ему «Марсельезу»!
— Соня, не закусывай удила! — строго оказал ей отец, но глаза его смеялись, не было в них никакой опаски.
— А что? — все больше входила в задор Соня. — Имеем право петь! Свобода слова! И если он вздумает нам мешать, имеем право его арестовать: он, значит, идет против царского манифеста!
Когда безголосый человек поет — один! — на улице, пение его звучит всегда неприлично-жидко. Так запела и Соня:
Отречемся от старого ми-и-ра,
Отряхнем его прах с наших ног!
Пожилой городовой притворился, будто он нас не замечает и Сониного пения не слышит. Когда мы прошли мимо, я невольно оглянулась. Прижав одну ноздрю пальцем, городовой лихо высморкнул содержимое другой ноздри на мостовую. Потом вытер пальцы и поглядел нам вслед без всякого интереса. Для него — это было вполне очевидно! — со вчерашнего дня ничто не изменилось.
Все это я вспоминаю сейчас с новым чувством, как будто вижу события этого дня новыми глазами. Ночь тянется бесконечно, но страха у меня нет. Правда, за окнами все та же чернота, та же притаившаяся угроза. Но со мной — люди, товарищи. Несколько раз за ночь они выходят на улицу, осматривают дорогу, сад. Все тихо… Кажется, именно с этой ночи появляется у меня чувство уверенности: люди — это все! С людьми ничто не страшно!
…Я сижу около Колобка. Вспоминаю в подробностях весь минувший день. Митинг, первый в Новгороде открытый митинг, происходил в городском саду. Сад этот удивительной красоты и разбит с редким вкусом, — по словам местных жителей, его насадили пленные французы армии Наполеона.
Народу пришло много, хотя меньше, чем пришло бы на объявленное гулянье с фейерверком. Первым на летнюю эстраду, с которой говорили и все последующие ораторы, взошел земский работник, Николай Васильевич Милотов.
— Граждане! — начал он. — Над Русской землей блеснули первые лучи свободы!
Прекрасный баритон Милотова, красивое, симпатичное лицо, необычное обращение — не «господа!», не «милостивые государыни и милостивые государи!», а мужественное «граждане!». Впервые прозвучали в Новгороде и слова о лучах свободы, блеснувших над Русской землей. Все это произвело на собравшихся хорошее впечатление. В заключение своей краткой речи, которою он открыл митинг, Милотов предложил спеть похоронный марш — почтить память погибших борцов за свободу.
Толпа запела:
Вы жертвою пали в борьбе роковой…
Пели поначалу не очень стройно, потом нашли ритм. Пели истово, с душой, и пение сразу очень подняло настроение.
Вслед за Милотовым говорили местные кадеты. «Мы справляем великий праздник свободы!.. Теперь, когда нам дарована законодательная дума, надо идти в эту думу добывать счастье для народа!» Один оратор закончил свое выступление стихотворными строками:
На святой Руси петухи поют, —
Скоро будет день на святой Руси!
Выступило несколько ораторов-большевиков, один — земский агроном, другой — рабочий-железнодорожник.
Как ракета взвился Аля Сапотницкий! Он громил «куцую и криводушную» царскую конституцию. Говорил: обещания царского манифеста — пустые слова, ничем не подкрепленные, ничем не гарантированные. Царь хитрит, оттягивает время, чтобы в союзе с черносотенцами задушить революцию и еще крепче затянуть на шее народа старую петлю нищеты и бесправия.
В том же смысле высказывались и ораторы других партий — меньшевики и эсеры.
Рано праздновать! Борьба еще только начинается! — таков был смысл выступлений всех революционеров.
Ораторов прерывали выкриками, хулиганскими выходками. Затесавшиеся среди толпы черносотенцы — рядские «молодцы», пристанские грузчики и босяки — безобразничали, стараясь сорвать митинг. Известный всему Новгороду пьяный и буйный босяк Гараська, оборванный, в опорках, с опухшей лилово-сизой мордой, неожиданно появился на эстраде.
— Имею честь! — сказал он дурашливо. — Вот тут один господин сказали, на святой-де Руси петухи поют… Это можно, извольте!
И, к совершенному обалдению присутствующих, Гараська очень серьезно трижды прокукарекал петухом! Раздались свистки, негодующие крики:
— Безобразие! Гоните Гараську!
— А-ах так? «Гоните Гараську»? Я к вам с душой, а вы… Ну, так вот — видали? — и Гараська потряс над головой бутылкой водки. — Это я у них, у социалов этих… у господина Милотова из кармана… да нет, что я! — у господина Соловьева из кармана вытащил…
Гараська, пьяный, завирался все больше. Он называл все новые фамилии людей, у которых он якобы вытащил из кармана бутылку водки. Фамилии были все бесспорные, уважаемые, никто из этих людей никакой водки в кармане не носил. Но Гараську натаскали и выпустили на эстраду именно для скандала, и присутствовавшие на митинге, видимо, во внушительном количестве черносотенцы изо всех сил разжигали этот скандал. Они свистали, заложив два пальца в рот, орали: «Крой их, Гараська!» Было невыносимо безобразно.
Митинг объявили закрытым.
При выходе из городского сада толпа разделилась на две части. Одна пошла неорганизованно, вразброд к воротам сада, ведущим через кремль к мосту — на Московскую сторону города. Неподалеку от сада на них напали черносотенцы, произошла свалка, кое-кого помяли, ушибли земскую учительницу. Мы, направившиеся к противолежащему выходу из сада, этой свалки не видали. Мы вышли из сада организованно, построившись, — женщины шли в обрамлении мужчин, рабочих и студентов. Нас не тронули. С пением революционных песен мы прошли до Петербургской улицы и по ней до конца.
Были уже сумерки. Большая группа товарищей пошла провожать нас до Колмова. Пока добрались туда, наступил вечер, стало совсем темно. Я позвала провожавших к нам — напиться чаю, обменяться впечатлениями.
Вот тут-то и раздался из комнаты Колобка звон разбиваемых оконных стекол!
Михаил Семенович и Соня тоже сидели у нас. Соня была скучная — сентябрь сентябрем… Да, не схожи были между собой утро этого дня и его вечер.
Едва развидняло, Иван напоил нас чаем, накормил. Сударкин, Сапотницкий и Козлов уходят в город. В эти дни у них забот и работы, по выражению Козлова, «выше носа». Двое из них — члены комитета новгородской социал-демократической организации. Уходя, Сударкин говорит мне: