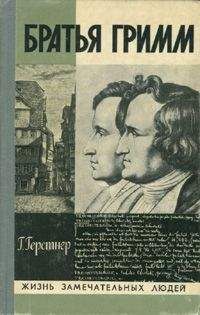Веня очень удивился, когда как-то вечером дядя Саше выбрал один самый длинный ремень, а все остальные сложил в фанерный ящик из-под посылки и засунул его под кровать.
— Баста! — сказал он.
Теперь дядя Саша работал с тележкой. Тележка была небольшая, на трёх колёсах, как детский велосипед, но колёса были широкие, подвижные. Дядя Саша быстро освоил эту механизацию и долго ещё удивлялся, как это люди раньше не догадались придумать такой ерунды. Теперь он мог перевозить до двенадцати мест весом в четыреста килограммов, перехватывая вещи одним ремешком. Твёрдые большие мозоли на его плечах начинали сходить.
Несколько месяцев спустя дядя Саша спрятал последний ремень в тонкий фанерный ящик, который стоял у него под кроватью и каждое воскресенье с него вытиралась пыль, и снова сказал с гордостью:
— Баста!
На этот раз дядя Саша пошёл на повышение — он стал доставлять вещи на вокзал прямо из дома пассажиров. Ему вручили мотороллер с крытой коляской — ну прямо автоносильщик. Вещи у пассажиров дядя Саша забирал за три часа до отхода поезда. Оплата была скромная — сорок пять копеек за место. Перед вагоном людей ожидали вещи. Удобно и никакой волокиты.
В иные загруженные дня дядя Саша успевал перевозить пятнадцать тонн клади за смену и по четвергам в бане хвастался армейскому массажисту своими успехами.
Временами Веню тянуло домой, где на завтрак был апельсиновый сок из холодильника, кофе по-турецки и бутерброды с паюсной икрой, а теперь Веня по утрам ел с дядей Сашей картофельный суп с пирожками. Дядя Саша умел шикарно готовить и постепенно передавал Вене знание кулинарии. Чего только не умел милый, хороший дядя Саша!
Но проклятый дом не уходил из головы. Он напоминал о себе, как пятёрка, взятая в долг до получки, приглашал в гости, как ни старался забыть его Веня. Трудно забыть дом, в котором прожито семнадцать лет, где молчаливые картины на стенах хранят твои юношеские тайны. Это как первая любовь. Всё прошло и кажется забытым, закрытым временем, но шевельнётся память, и снова почувствуешь на губах жаркое дыхание первого поцелуя.
Как-то июльским вечером, когда Веня сдавал экзамены в геологический институт, а дядя Саша работал во вторую смену, духа оказалось маловато, Веню распирал какой-то странный интерес — как они без него? — да и внутренний голос настойчиво, по-дружески уговаривал его — зайдёшь на часок, посидишь и уйдёшь.
И Веня пошёл. Он поднялся на лифте на шестой этаж и позвонил два раза — один короткий и один длинный звонок, он всегда так звонил. Веня с трепетом ожидал, кто откроет ему дверь — отец или мать. Но никто не открыл.
Никого нет, подумал Веня, уехали в гости. Или в театр. Они всегда мало сидели дома. Они любили и умели развлекаться так же, как и тратить деньги. Это к лучшему. Всё к лучшему.
И сразу стало как-то свободней, легче, и воздух вдыхался полной грудью, как в сосновом бору, и Веня почувствовал, что его неудержимо тянет к дяде Саше.
Но старик не пришёл в эту ночь. Он больше никогда не пришёл домой.
Следующий день Веня провёл в больнице у его постели. Но дядя Саша, милый, хороший дядя Саша, у которого на плечах оставались следы от желтоватых мозолей, не пришёл в себя.
Он умер спокойно, в тихом бреду, вспоминая свои ремни, спрятанные в тонком фанерном ящике под его кроватью.
Щёки его ввалились. На них была седая короткая щетина, как скошенная у реки осока.
Дядя Саша тоже не выдержал, как и Веня. Почему? Веня никогда не узнал об этом. Ста пятидесяти граммов оказалось достаточно, чтобы вместе с мотороллером и чемоданами попасть на повороте под автокран.
— Свидетельство о смерти отца можете получить завтра, — сказал Вене человек в белом халате.
Кто он был — мужчина или женщина, — этот белый человек с чужим голосом? Разве это было важным? Он был весь белый, этот человек, — с белыми бровями, с белой головой, и его чужой голос тоже казался Вене белым и холодным, как снег. На улице шёл дождь. Капли дождя были лёгкими, как пушинки. Может быть, это шёл первый снег?
С вокзала, на котором суетились носильщики с тележками, кряхтели и хлопали себя по бёдрам паровозы, Веня уехал в Тайшет. В этом городе, названном в честь отважного охотника, начинался фронт работы сорок первой механизированной колонны, которой командовал Гуревич. Дядя Саша тоже носил на груди № 41. Это было доброе совпадение.
Надо всё начинать сначала, решил Веня. И пусть это начало не будет у меня плохим. Надо самому творить чудеса. Надо, чёрт возьми. Надо. Нечего мне ныть и распускать слюни. Не поможет. Всё в моих руках, в моей голове. При дележе меня не надули. Я верю своим рукам.
Так думал Веня три года назад.
Машина шла через тайгу.
Веня зевнул и повернул голову на пустое сиденье.
— Танцуют сейчас в клубе, — с завистью сказал он, поправляя копну нестриженых волос и придерживая руль локтями.
На сиденье рядом с Веней появился второй Калашников. Этот Веня дубль два, а скорее всего, первый дубль был в чёрном костюме, белой сорочке и вертел на пальце тонкую цепочку с ключами. Он был симпатичным, приятным парнем, очень похожим на Веню, но всё-таки выглядел каким-то чужим в этой простой кабине «ЗИЛа», пропахшей бензином насквозь и больше.
Веня не удивился. Он с грустью и сожалением окинул взглядом соседа и усмехнулся, думая, что это видение сейчас пройдёт, как проходят все сны, которые наутро и вспомнить невозможно; помнишь только, что кто-то дрался, кто-то целовался, а кто дрался и с кем целовался — непонятно.
Но парень не собирался исчезать. Он кивнул Вене и сказал:
— Здорово.
— Здорово, коли не шутишь, — ответил Веня.
— Говоришь, танцуют?
— Ясное дело, вовсю наяривают. Мальчишки вчера наглаживали выходные костюмы. А брючата на ночь засунули под матрацы. Стрелки, как бритвы, получились — осторожно, обрежешься. Испытанный армейский метод.
— Кому это надо?
— Как кому? — удивился Веня. — У нас знаешь сколько девчат? Филин пошёл на танцы с новым аккордеоном. Сколько шику, куда там. Это ему сестра из Киева прислала. Он, подлец, три недели учил «Липси». Смешной, даже ноты купил. По заказу выслали из столицы. Пыль в глаза пускает Ане-радистке. Три месяца ждал эти ноты, только всё равно не секёт он нотную грамоту.
— «Липси» всё танцуете? — Парень улыбнулся и положил ногу на ногу.
— И «Липси» тоже.
— А с деньгами как?
— Сотни две с гаком получается в месяц. Жаловаться не на что, — ответил Веня.
— Мура всё это, — сказал парень. — Глупость на тысячу процентов. Милая скука и таёжная грязь. Вонючие портянки, которые не просыхают за ночь, и сапоги, в которые нужно подкладывать газеты. Беременные тараканы и отъевшиеся клопы. Ванная в бочке и костлявая полка. Мура всё это!
Ну и балда же ты, друг, подумал Веня, балда всесоюзного значения. Сколько я уже таких видел? С виду матадор, а по уму извозчик.
Но вслух Веня ничего не сказал.
— Верно, ждёшь не дождёшься отпуска? — спросил парень.
— Точно.
— И когда?
— По графику под Новый год. Новый год я в колонне встречу, а потом… Отпуск — это роскошная вещь. Отпуск что-то вроде чуда. У тебя в кармане куча денег и в зубах билет на самолёт до Таллина. Разве это не чудо? Папа Чингис пригласил меня к себе в Таллин. Там мы Новый год встретим второй раз.
Пошёл дождь. Он забарабанил по крыше и лихо отплясывал «Липси» в пучке света перед машиной. Веня включил «дворники» и повернулся к соседу.
— Душ примем? — спросил он.
— Ты псих? Или психом притворяешься? — ответил парень.
Веня ничего не сказал ему. Что скажешь такому балде? Он улыбнулся и остановил машину. Потом ещё раз посмотрел на приятного юношу и выпрыгнул под дождь.
Фары машины освещали большую лужу, в которой плакала луна. Веня подбежал к ней и, зачерпнув ладонями холодную дождевую воду вместе с луной, плеснул себе в лицо.
Когда он вернулся, в кабине никого не было.
Чепуха какая-то померещилась, решил Веня.
Скоро его «ЗИЛ» съехал в балку и чуть не столкнулся с гружёной машиной, одиноко стоящей под дождём. Грузовик был старый, потрёпанный, испытавший на своей шее гостеприимство таёжных дорог и набитый до отказа тяжёлыми ящиками с электродами.
Веня посигналил несколько раз и начал медленно объезжать машину.
И тогда перед его «ЗИЛом», словно из-под земли — так и задавить недолго, появился худенький парень, размахивая руками.
— Стой! Стой! — кричал он. — Да стой же, кому говорят!
Парень подбежал к Вениной машине, изо всех сил рванул дверцу кабины и с возмущением заорал:
— Ты что же, и помочь человеку не хочешь? Что у тебя, у чёрта, глаз нет? Не видишь — засел. Так нет же, — и парень сделал какой-то странный жест рукой, в котором умещалось свободно не два, а четыре смысла, — едрёна кошёлка!