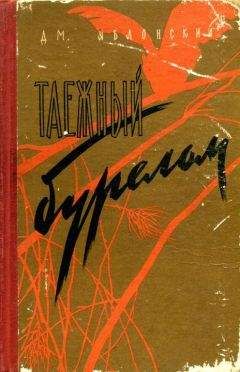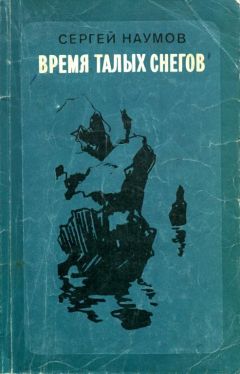Рядом с Сухановым появился широкоплечий моряк с седыми бакенбардами, боцман крейсера «Грозный» Гаврило Коренной — депутат Совета. В плотно сжатых зубах дымилась внушительных размеров трубка. Коренной решительным движением выхватил из деревянной коробки маузер, поднял его вверх и, зычно гаркнув: «Тихо-о!..» — разрядил всю обойму в воздух.
Суханов неодобрительно покачал головой, боцман отошел в глубь балкона.
И сразу же на площади воцарилась тишина.
— Вот и дождались светлого дня, — летели в толпу чеканные фразы. — Жизнь берет свое! Воля народа сильнее пулемета. Но было бы наивно думать, что контрреволюция сложила оружие. Она уступила силе, но волк остается волком. Чтобы удержать власть, нам надо иметь свои вооруженные силы. К оружию, товарищи!.. Создадим свою рабоче-крестьянскую Красную гвардию!..
Радостный, взбудораженный неожиданным освобождением, прислонившись спиной к каштану, в толпе стоял Тихон Ожогин. Мир перед ним словно преобразился. Даже мрачное здание тюрьмы выглядело празднично. Три месяца просидел он в застенке.
Когда Суханов кончил свою речь, кто-то запел «Интернационал». Гимн подхватили сотни голосов.
Матросы Тихоокеанской эскадры вынесли из тюремной канцелярии столы. Началась запись в Красную гвардию. Бывшие политические заключенные, солдаты и матросы, осужденные за дезертирство из армии Керенского, получали винтовки, строились повзводно и под командой только что назначенных командиров уходили в казармы.
Толпа редела. На площади становилось все тише, а Тихон стоял, прислонившись к дереву. Холодным блеском светились его глаза. Сорок два дня просидел он в камере для осужденных к смертной казни. Каждую ночь уходили в последний путь его новые друзья. Многих проводил Тихон за эти сорок два дня, пока дождался замены смертного приговора пожизненным заключением.
Коренной подошел к унтеру с георгиевским крестом, тронул его за плечо.
— А ты, браток, что же от своих отстаешь?
— Хватит, навоевался, сыт по горло, — сдержанно ответил Тихон.
— Кто же советскую власть защищать станет?
Тихон усмехнулся.
— А ее никто пока не обижает.
— Плохо тебя, видать, в тюрьме учили.
Тихон обозлился, задрал гимнастерку. Кровоточила иссеченная нагайкой спина.
— За что же? — проникаясь невольным уважением к унтеру, дружелюбно спросил Коренной.
— Надзирателя по зубам съездил, казачишки и озверели…
Тихон закинул мешок за плечи и, жмурясь от бьющего в глаза солнца, пошатываясь, тихо побрел по площади, думая о том, как бы поскорее привести себя в порядок. Одежда совсем обветшала, в прорехи виднелось давно не мытое, лоснившееся от грязи тело. Сапоги износились, истлели от сырости. Как в таком виде в родную станицу вернуться? Он поднялся на вершину Тигровой горы. У ее подошвы плескалось неоглядное море. По склонам сопок лепились дома. Доносился гогот гусей, мычание коров.
В небе неотчетливо послышался крик. Тихон поднял голову. По голубеющему поднебесью с таежных гнездовий, за океан, стремительно неслась стая лебедей.
— Радуются, домой летят, — сам с собой заговорил Тихон. — Вот она, жизнь!..
Лебеди давно скрылись из виду, а он все смотрел и смотрел вдаль.
Потом опустился на камень, стянул сапоги. Развесил на кусте портянки. Подпер рукой по-арестантски бритую голову, задумался.
Долго сидел Тихон: решал, прикидывал, потом поднял мешок и босой решительно направился к петлявшему внизу тракту: по нему он выйдет к Уссури. Спустился к морю. На берегу сидел моряк с седыми бакенбардами, с которым Тихон недавно разговаривал. Он чистил икряную кету. На камне, рядом с ним, лежал кисет, обрывок газеты и коробка спичек.
Моряк узнал георгиевского кавалера, окликнул:
— Эй, браток, подойди!
Протянул руку.
— Боцман Коренной с «Грозного». Сам-то чей будешь?
— Тихон Ожогин. Из Раздолья.
— Добре.
Тихон запустил руку под рубаху, стал ожесточенно чесаться.
— Жрет, проклятая, терпения нет, — угрюмо бросил он.
Коренной ухмыльнулся, выпустил струю сизого дыма. У Тихона засосало под ложечкой, раздулись ноздри.
— Пусть жрет — может, умнее станешь, — равнодушно бросил Коренной.
Тихон пожал плечами.
— Для друга табачок, для недруга тумачок, — продолжал Коренной, протягивая кисет.
Руки Тихона дрожали. Бумажка рвалась, табак посыпался на колени.
Коренной оторвал листик бумаги. Насыпал на нее щепоть махорки и, ловко скрутив длинную цигарку, протянул унтер-офицеру.
— Кури, браток, — может, в кубрике-то просквозит.
Курил Тихон медленно, смакуя каждую затяжку.
Коренной прищуренным взглядом прицеливался к упрямому унтеру, оценивал.
Пробили склянки. Боцман поднялся на ноги. Прихватил котелок с икрой, связку рыбы, удочку.
— Пошли со мной на корабль.
— Что мне там делать?
— Пойдем, пойдем!.. Жалеть, вислоухий, не будешь.
— Нам не по пути. Мой курс через тайгу-матушку.
— Моря, что ли, боишься?
— Не боюсь! На море, верно, бывать не приходилось, а на воде вырос: Уссури с норовом, чуть оплошаешь — так лодку в щепы.
Помолчав, добавил:
— Плоты мы летом с батей в Амур гоняли: с водой свычен.
— Значит, заметано, пошли. В бане на крейсере помоешься, белье сменишь, ну и ремень распустишь: с голодным пузом не споро идти.
При упоминании о бане глаза Тихона заблестели. Яростно почесав грудь, он согласился.
До пирса дошли, не обменявшись ни словом. Вдали дымил трехтрубный крейсер «Грозный». Над мачтами вились с пронзительными криками чайки, у борта плескалась стая гагар.
Подали шлюпку.
На корабле Тихона сразу же провели в жаркую баню. Коренной протянул ему бутылку с какой-то вонючей жидкостью.
— Натрись.
После бани Тихон побрился и, помолодевший, посвежевший, присел на койку в каюте боцмана.
— Сколько же тебе, браток, годков? — спросил Коренной.
— В Покров вот двадцать один стукнуло.
— Салажонок, совсем салажонок! А я думал, за тридцать. Когда же успел навоеваться?
— Восемнадцати еще не было, как пошел.
Боцман куда-то отлучился. Вернулся он с большим узлом.
— На вот, обряжайся во флотское, оно хоть и в заплатах, но чистое.
Тихон повеселел: есть же сердечные люди! Бережно отцепил от старой гимнастерки георгиевский крест.
— Кинь эту побрякушку в море, — предложил Коренной.
— Ты что, белены объелся? — обозлился Тихон. — Пес с ней тогда, и с одеждой твоей.
— Брось, говорю. Тебя с крестом устукают в городе.
— Пусть попробуют, — сжимая кулаки и весь напрягаясь, яростно выдохнул Тихон.
В маленьких, широко расставленных глазах Коренного мелькнула и тотчас погасла испытующая улыбка.
— Я тебе подобру, браток, советую.
Упрямые желваки заиграли под туго натянувшейся кожей Тихона.
— Нет! — отрезал он. — На нем не только моя кровь. Надо было бы всем драгунам из нашего эскадрона по «Георгию» дать. И дали б, да вот только в тот злосчастный день нас из трехсот сабель одиннадцать осталось: остальных иприт прикончил.
Коренной, попыхивая трубкой, с интересом слушал рассказ Тихона о том, как гибли драгуны в волнах газовой атаки, как из-за креста смертную казнь ему заменили пожизненной каторгой.
— Н-да, — вздохнул боцман, — много горюшка хватил, но время горячее, как ни говори, а награда-то царская. Ну что ж, надевай, только потом не кричи полундру.
Тихон натянул тельняшку, заправил брюки в голенища сапог, затянул потуже ремень.
— Ты, Гаврило Тимофеевич, большевик? — неожиданно спросил он.
— Вчера заявление в партию подал, не знаю, примут ли!
— Примут, нутро в тебе партийное, — уверенно отозвался Тихон.
— А как же ты теперь жить думаешь? — поинтересовался Коренной.
— Приду домой, огляжусь…
— Погляжу, потянусь, попарюсь, баб пощекочу, — насмешливо перебил Коренной и вдруг стукнул кулаком по столу. — Мало тебя, дохлая камбала, стегали. Я б на месте военно-полевого на сук вздернул.
— За что же? — опешил Тихон.
— За то, что не прозрел, китенок! Тогда бы хоть твои братья поняли, откуда штормом носит, за тебя рассчитались бы.
Тихон смолчал. Боцман речист, напорист. Возражать ему трудно.
— Блажь выкинь из головы, — покручивая бакенбарды, все строже убеждал Коренной. — Ты, кашалот беззубый, понимаешь ли, как совершается революция? Я вот Ленина читал, за сердце берет. А ты, крокодил нильский, раздумываешь.
— Я не раздумываю. Приду вот в Раздолье, скрутим казаков…
— Они тебя ждать будут? Далась тебе эта станица. Пойми, браток, что не там решается судьба революции, а здесь, во Владивостоке, — сомнут мастеровщину, амба и твоему Раздолью; и моему крейсеру, и всей русской земле. Чуешь? У нас в пехоте строевых командиров нет, а у тебя опыт. Не растерялся, эскадрон повел в атаку. Не всяк так-то вот может… Ну, ладно, — прервал Коренной.