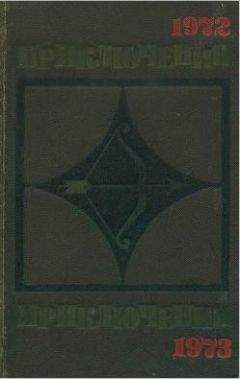— Сарсанбай! — Возле него стоял чайханщик Мадумар. — Будет тебе, сделай, как я сказал. Изведешь себя ожиданием.
Старик не отозвался. Потом повернулся, вытащил из-за голенища потертый рубль и кинул на блюдце. Поднялся.
— Уходишь? Плов готов. Поешь перед дорогой.
— Как-нибудь в другой раз. — Сарсанбай направился к двери. — Будь здоров…
Выйдя во двор, старик задержался, будто что-то припоминая, и вернулся в чайхану.
— Неужели и ты не понимаешь, Мадумар-ака? Он оставил их мне, и я должен сам хранить и вернуть их… Ты видишь, у него есть дом и овцы, ему есть за чем прийти… Часть его жизни здесь, и она не остановилась… Он живой здесь… Пока ждут его…
Мадумар промолчал. Только когда друг ступил на порог, сказал вслед:
— Кланяйся Зеби.
Покрывшаяся на морозце инеем пегая кобыла, увидев хозяина, тряхнула, ласкаясь, головой, подалась к ступенькам. Старик неожиданно легко поднялся в седло и подобрал повод.
— Тронулись.
Кобыла бодрой рысью направилась к дому. Она знала, что возвращается домой, и в радости возвращения не думала о том, что много раз еще придется ей приходить сюда, к чайхане, неся на своей старой спине старого хозяина и его неоплаченный долг.
Старый Гулямкадыр-ата задумчиво сидел на веранде своего дома, и спиной он чувствовал столб, долгие годы поддерживавший навес над этой верандой. Так он сидел уже третий вечер подряд, — вернувшись на закате домой, садился здесь и предавался воспоминаниям. А ведь всего несколько дней тому назад он просто закрыл бы дверь своего дома и отправился в чайхану. Он любил чайхану, там всегда можно было встретить друзей-приятелей, пошутить, поболтать. Домой обычно возвращался за полночь, потому что жил один. Только по воскресеньям старик никуда не ходил, оставался дома и готовил обед, а потом садился в тени старой орешины и ждал своего внука Мамадали. Мальчик в этот день приходил к дедушке из интерната. Оба, и старый и малый, любили плов, особенно плов по-фергански. И потому Гулямкадыр-ата каждую субботу ходил на базар за продуктами для плова. Внук даже сердился.
— И зачем вам было беспокоиться, дедушка, — скажет он, обиженно надув губы, — добро бы базар был рядом, а то вон в какую даль идти нужно.
— Ах, дитя мое, для старого человека такое беспокойство только на пользу, — ответит Гулямкадыр-ата, радуясь заботливости внука. — Вся наша семья любила плов, и отец твой покойный, и мать…
Задумается после таких слов Гулямкадыр-ата, сдвинет густые белые брови, помолчит: потом шевельнутся в невнятном звуке губы, и словно запросится наружу, и потечет умеренная речь. Знает Гулямкадыр-ата — разбередит себе сердце воспоминаниями, но тянет его поговорить о сыне, о снохе, о жене. Мамадали много раз слышал этот рассказ, но никогда не перебивает деда, внимательно слушает. Мать он помнит смутно. Она умерла, когда ему едва исполнилось три года. Вспоминая, видит ее белолицей, полной и всегда смеющейся. А отца мальчик знает только по портрету, который, сколько он себя помнит, висит в переднем углу комнаты. Еще мальчик знает, что отец его служил в армии, в одном из городов Германии — трудно только выговорить название — и погиб там от взрыва мины. С тех пор прошло много лет. В большом доме остались жить двое, он и дедушка, а когда в колхозе открыли свой интернат, Хаким-ака забрал его туда.
Хаким-ака был другом отца, они вместе воевали, а сейчас Хаким-ака преподает в школе родной язык. Дедушка Гулямкадыр-ата очень хорошо отзывался о друге своего сына. «Ты слушайся Хакима-ата, — наставлял дед внука, — а то он тебя сразу за ушко да на солнышко». Да, так он говорил раньше. А сейчас Мамадали стал уже большой, и ему не приходится слышать от деда подобные слова. Теперь дедушка разговаривает с ним, как с равным. Дед говорит, а Мамадали слушает. Поэтому он и знает так много. Знает, какие славные люди были его отец, мама и бабушка.
Бабушка, оказывается, вместе с дедом — тогда они еще были молодыми — дралась с басмачами, скакала верхом на коне, а однажды даже захватила в плен здоровенного детину — бандита. Весь эскадрон тогда поразился ее храбрости… Вот какой была его бабушка!
Опустится вечер, повеет прохладой, а рассказам Гулямкадыр-ата все нет конца. Прервет его тихонько внук:
— Дедушка… — и покажет на небо: дескать, пора мне.
Старик глянет на темнеющий небосвод, на разбежавшиеся по нему огоньки звезд, что ярче к ночи, и вспомнит про интернат, где, должно быть, заждались его внука. Помолчит, исподлобья, как будто издали приглядываясь к мальчику, потом вдруг улыбнется. Мамадали очень любит эту улыбку деда. От сощуренных глаз разбегутся морщины, а седая борода распустится широко по груди, станет пышной и важной.
Мамадали знает, сейчас дедушка разок-другой кашлянет и скажет:
— А ну-ка, доктор, покажите ваш дневник.
Почему «доктор» — Мамадали не понимает. Он быстро достанет из портфельчика дневник и подаст деду. Увидев пятерку, старик вдруг сделается торжественносерьезным, с лица исчезнут лучики улыбки, и борода вернется на прежнее место. Осторожно положит дневник на низенький стол и распишется, не торопясь, старым арабским шрифтом. Задержит взгляд на своем имени, потом закроет дневник и вернет внуку.
— Рахмат, — скажет степенно, — рахмат, спасибо…
Потом дедушка с внуком отправятся в интернат.
На обратном пути, хоть и рано еще ложиться, Гулямкадыр-ата в этот день не заглянет к друзьям в чайхану, а, вернувшись домой, сядет там, где еще недавно сидел с внуком, и, напившись чаю, распланирует дела на завтра. Шутка ли сказать, в его ведении десять гектаров колхозного сада. С утра до вечера пропадает Гулямкадыр-ата на участке, только поздно вечером выбирается в чайхану.
Но вот уже три дня не видели старика в чайхане, три дня он никуда не выходит, сидит дома. А всему виной председатель кишлачного Совета.
Дело в том, что недавно принято было Советом решение: снести дом Гулямкадыра-ата. Два соседних кишлака объединялись, связать их должна была новая широкая дорога. Дом же старого садовника стоял, оказывается, прямо на трассе этой будущей дороги. Старик не возражал против того, что дом снесут. Кто же будет против благоустройства кишлака, против новых широких улиц, если к тому же колхоз дает ему в самом центре кишлака новый дом! Когда к нему пришел председатель кишлачного Совета и объявил о решении насчет дома, старик ничего не ответил, только склонил голову, как бы в знак согласия. Но, оставшись один, вдруг почувствовал — болью сжалось сердце. А как же сад? Оставят ли фруктовые деревья? Что будет с яблонями, черешнями, грушами, персиками? А его орешина? Что станет с орешиной?
В летнюю жару только здесь находил старик покой, только сидя под этой старой орешиной, огромной, как столетний дуб, не мучился жаждой. А осенью собирал с нее столько орехов, что хватало всему кишлаку. И не было человека, ни в самом кишлаке, ни гостя, который, проходя мимо, не полюбовался бы старым деревом, не остановил посветлевшего взгляда на развесистой кроне, на стволе в два обхвата толщиной, не удивился бы величине орехов. И замечательной была история этой орешины!
Давным-давно, еще во времена борьбы с басмачеством, Гулямкадыр-ата был командиром красного эскадрона.
Крепко досталось от него бандитам Али-курбаши и Аманкулу, рыскавшим в Коканде и Фергане. В двадцать первом году сам Фрунзе пожал ему руку, вручая орден Красного Знамени. А потом, вместе с отрядом Шахобиддина Садыкова, того самого командира Садыкова, что взял в плен английского офицера, пытавшегося скрыться на самолете, Гулямкадыр-ата сражался с басмачами под Бектемиром, Пскентом и Паркентом. И орешину, что росла у него во дворе, он посадил еще в те далекие годы.
Однажды после погони за бандитами Али-курбаши проезжал Гулямкадыр-ата через свой кишлак и увидел на обочине дороги замученного басмачами старика. Запекшаяся кровь на его лице перемешалась с пылью, один глаз вытек. Было похоже, что бандиты волокли его по дороге, привязав к хвосту лошади. Склонившись над бездыханным телом, Гулямкадыр заметил в руках старика небольшую веточку. Будто самое дорогое, что связывало его в последние минуты с жизнью, сжимал он эту веточку застывшими пальцами. И тут Гулямкадыр узнал наконец… Саид-азим! Садовник Саид-азим из их кишлака! Зеленая веточка орешины, зажатая в руке садовника, уже начала вянуть…
Джигиты похоронили садовника, а веточку орешины Гулямкадыр посадил у себя во дворе перед сожженным басмачами домом. С тех пор разрослась эта орешина, раздалась вширь, вытянулась вверх и дала потомство. Колхозная ореховая роща почти вся из ее семян… Так неужели теперь срубят ее, погубят, чтобы проложить новую широкую дорогу?
Гулямкадыр-ата поднял голову, посмотрел вверх. Широкие листья орешины, в полдневную жару закрывавшие двор от палящего солнца, сейчас мирно шелестели и напомнили старику его далекое детство. Так, помнится, шелестел большой бумажный змей — курак, а когда его запускали, к нему еще прикрепляли листочки из тонкой папиросной бумаги, чтобы жужжали… Долго сидел старый садовник, прислушиваясь к шепоту листьев. В привычных звуках он умел расслышать далекое, давно знакомое. Они напоминали о днях молодости, о юных годах, когда он, удалой джигит, играя саблей, вихрем летал на коне, столбом вздымая на дороге пыль. Но чаще слабый шелест и нежный ветерок рассказывали о его теперешней тихой жизни, приносили успокоение, и мысли о годах, прожитых с честью. В такие минуты Гулямкадыр-ата забывал о старости. Глядя на свои большие сморщенные руки, он думал: «Вы еще поработаете, еще много сможете сделать…», надеялся, что жизнь впереди еще долгая…