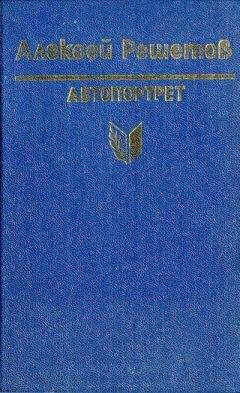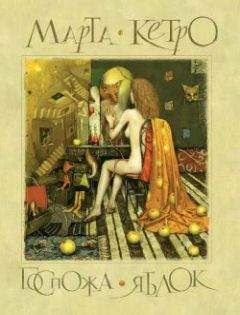Наши обновки Марише не понравились:
— Как на арестантов пошили. Дети же — могли бы и постараться.
— Что ты, Мариша, — возразила бабушка, — и за это спасибо. Пусть хоть теперь свежим воздухом подышат…
Она одергивала на нас матерчатые воротнички пальто, вытаскивала белые нитки наметки.
Мариша не унималась:
— Хоть бы кошку какую пришили. В шею же задувать будет.
— Ой, смотрю я, Маришенька, зазнаваться ты стала, — покачала головой бабушка.
— А чего мне? — в тон ей ответила Мариша. — Вот с ногами бы только полегчало… А так — жить можно.
На другой день она пришла к нам со свертком под мышкой.
— Вот вам воротники, кавалеры! — сказала она, кладя сверток на стол. Бабушка развернула газету и всплеснула руками:
— Сумасшедшая! Такую вещь загубила. Да ей цены нет.
Мариша только посмеивалась:
— Ладно, ладно. Я старая, мне уже из дерева вещь надо. Чего кричишь — детей пугаешь?
— Свой у тебя теперь. Ему бы что сделала…
— И своего не обижу, не беспокойся…
Бабушка долго еще и возмущалась, и благодарила Маришу. Потом села подшивать прекрасную доху, превращенную Маришей в коротенькую жакетку.
…И вот мы с Петькой интернатцы. Такие же, как Левка Сидор. Он самый старший в группе, над всеми командует.
Едва мы появились в интернате, он подошел ко мне и спросил:
— Ты за грабли или за вилы?
Я ничего не ответил. Он толкнул меня плечом:
— Ну?
— Ну за вилы… — сказал я нерешительно.
— За фашистские могилы, — засмеялся Сидор. — Ребя, смотрите, он за фашистские могилы!
Все, кроме Петьки, поглядели на меня с явным презрением.
Сидор обратился к брату:
— А ты за вилы или за грабли?
— За грабли.
— За советские сабли! — обрадовался мальчишка. — Молодчик! А это твой брат?
— Ты к нему лучше не лезь, — грозно предупредил Петька.
— Ладно, — согласился Сидор, — не буду. Только он, дурак, за вилы.
Левка пошарил по карманам и протянул Петьке брусочек пластилина со вставленным посредине стеклышком:
— Зырь, блескоглаз это называется. Сам сделал. Надо? Я тебе потом еще Нухимова дам — марка такая. Ты марки копишь?
Сидор верховодил и в столовой.
Поставили на стол хлебницу, и он, перерыв все куски, выбрал себе самую поджаристую горбушку.
— Сидоров, — сказала воспитательница, — оставь хлеб в покое. Сколько раз я говорила, чтоб не брали хлеб, пока не принесут первое.
Сидор послушно положил хлеб, но едва воспитательница отвернулась, послюнявил палец и приложил к облюбованной горбушке.
— Я грибом болел. Кто возьмет, тот сразу заразится.
И другие ребята вслед за ним смачивали пальцы и прикасались к хлебу:
— У меня свинка была.
— Ж-жаалтуха…
— Корь…
— Тоже корь…
— Корь не заразная!
— Сам ты не заразный!
— А ты девичий пастух.
— Ребя, свеклу несут! Налетай, подешевело!
— На фиг!
— Дети, ведите себя прилично!
После завтрака мы пошли на прогулку. Сидор взял за руку Петьку, а меня Елизавета Ивановна поставила с одной маленькой, тихой девочкой.
Я боялся, что и меня будут дразнить девичьим пастухом, и не разговаривал с нею. Она тоже молча шла рядом и только потирала свободной рукой носик. И если бы она не поскользнулась, переходя площадь, и не повисла на моей руке, я бы, наверное, совсем про нее забыл.
— Тише ты, — буркнул я попутчице и искоса посмотрел на нее.
Я увидел забрызганную веснушками щеку, покрасневший кончик носа и клочья жалкого воротника, на который уже нападали пушистые снежинки.
— Чо ты ешь? — спросил я, потому что веснущатая щека девочки была выгнута чем-то круглым.
— Пуговичу, — несмело ответила девочка, и, пока она отвечала, пуговица выскользнула изо рта и упала в снег. Девочка поспешно нагнулась за ней и вместе с кусочком снега отправила в рот.
— Военная пуговича, — похвасталась она, на всякий случай заслоняя губы рукавичкой.
— Тебя как зовут? — Не знаю, почему я смягчился.
— Чоня меня жовут. А папа рыбкой жовет.
— Ты всегда так говоришь: Чоня, жовет?..
— Это потому, что пуговича в роте, — пояснила девочка. — Папка мой, знаешь, на войне воюет. Он, когда приехал, маму вжял и ка-а-ак жакружит — пуговича аж отлетела и покатилась. Думали — в норку упала. Папа уехал, а я нашла.
В подтверждение своих слов Соня выплюнула пуговку на красную рукавичку.
— Гляди, звезда.
— Хорошая, — похвалил я и подумал: «Вот бы мне такую!»
У входа в парк, куда нас привели, хмурый старик приколачивал к забору фанерку. На ней чернилами было написано: «Бомбоубежыща хот здесь» и в углу пририсован палец.
Около деда стояла с пустой кошелкой в руке старуха. Всхлипывая, она рассказывала:
— Умерла Надя… Мы ей полотенцем руки согреваем, а она умерла. Может, огурчик хочешь, спрашиваю, а она умерла. Маленький достала такой… а она не дышит…
Старик хотел по гвоздю, а попадал по руке.
— Танечка из форточки пыталась выброситься, так я три ночи не спала…
В парк нас впустили нехотя.
— Пройдете прямо по аллее и на выход, — предупредил воспитательницу военный в длинной шинели.
В парке было тихо. Падал снег. Почему-то вспомнился фотограф…
На дверях киоска, в котором мы с Петькой покупали мороженое, висел ржавый замок.
Девушка с веслом, в центре фонтана, была покрыта серой ледяной корочкой. Чехол торчавшей из кустов зенитки был белым от снега.
Не слушая воспитательницу, мы разбежались в разные стороны. Кидали друг в друга снежками, сражались на коротеньких еще сосульках.
Сидор толкнул Соню, она упала прямо на куст акации. Встала и заплакала:
— Чо ты меня в снегу всю искатал? Комок я тебе, что ли?
— Я тебя на таран взял, — хохотал Сидор.
Он подскочил ко мне и подставил ножку:
— Я тебя приемчиком!
Я побоялся дать сдачи. Соня сняла вязаную шапочку и отряхнула меня.
«Какие у нее волосы, — удивился я, — колечки, колечки, колечки… У Ленки-маленькой и то хуже».
Мы вернулись в интернат к обеду. На первое был суп с клецками, на второе — форшмак из селедки. Все называли его «башмак».
Из столовой гуськом потянулись в спальню. Мне не хватило раскладушки. Воспитательница с тетей Оней внесли в спальню стол.
— Ляжешь здесь, — сказала Елизавета Ивановна, — потом что-нибудь придумаем.
Тетя Оня грозно спросила:
— Не мочишша? Смотри, столик-то кухольный!
И я, подпрыгнув, забрался в студеную чистую постель. Воспитательница наклонилась, поправила подушку. Лицо было совсем близко, и от этого глаза Елизаветы Ивановны казались еще больше, чем обычно. Они были темно-темно-синие, почти фиолетовые, с влажным, теплым блеском и густыми тенями возле ресниц.
— Спи! — говорит воспитательница. Я зажмуриваюсь, но едва исчезает с моих щек теплое ее дыханье, осторожно приоткрываю веки. Очень хочется, чтобы она подошла и к Петьке.
В мертвый час никто не уснул.
— Ребя, воспитка смылась, — сообщил Сидор, выглянув в коридор. Его раскладушка стояла у самых дверей.
— Ну-ка, дай полежу на тетивонином столе, — попросил он. Улегся на мое место и стал дрыгать ногами. Кто-то запустил в Сидора подушкой, он ответил, и началось побоище. Оно продолжалось до самого полдника.
Мы доедали кисель. Соня вдруг выронила ложечку и заплакала. Она плакала так громко, так безутешно, что даже повариха прибежала из кухни.
Сидор смущенно спрашивал: «Это я тебя сильно толкнул, да? — и старался оторвать руки, которыми девочка закрыла лицо. — Я, да? Хочешь, я себя ложкой стукну?»
— Отойди, Сидоров, — сказала воспитательница. — Иди доедай кисель.
— Что случилось, Сонечка? Ну, скажи. Тебя обидели?
— Пуговицу со звездой па-па-а-тиряла, — еле вымолвила Соня, когда воспитательница погладила ее по колечкам.
— Ну, чудачка! Достанем тебе пуговицу. Еще лучше прежней. Сейчас столько военных…
— Папки-ну-у хо-о-чу, — еще пуще расплакалась девочка. Она больше не могла говорить.
— У нее, наверно, в парке выскочила, — хмуро сказал Сидор и опустил голову. Потом, не оглядываясь, побежал к дверям.
— Я поищу!
— Сидоров, сейчас же вернись! — крикнула воспитательница, но Левки уже не было.
♦
— Ваш? — строго спросил сосед Димки Сойкина и подтолкнул Сидора к Елизавете Ивановне. — Герой! В запретную зону забрался.
И было непонятно: осуждает ли милиционер беглеца или хвалит.
— Сидоров! Конечно, мой, — обрадовалась воспитательница. — Замерзший-то какой! Дрожит весь. Да где ты был, гулена? Мы тут с ног сбились…
Левка и правда вздрагивал. Но, наверное, от страха, а не от холода. Одет он был тепло: такие же, как на милиционере, шапка и полушубок.