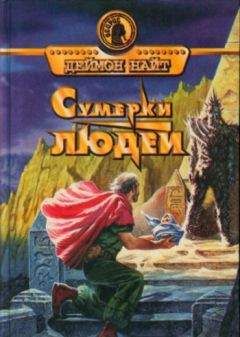Но мужики, запомнившие, как надурил их Анплей своим подарком, только сдвигали на глаза шапки.
— Где кони, Анплей? — опять спрашивал Мудреных.
— Колчаку он их угнал — вот где! — оскаливаясь, кричал Пашка Талалаев, бывший анплеевский лизоблюд. Теперь Пашка неотступно, как пёс, крутился возле Ефима Мудреных. — Колчаку — я знаю!.. Ефим Митревич, дай я ему кишки выпущу!..
Из степи, от киргизов пригнали остатки анилеевских коней, и Ефим стал формировать новый отряд. Вот тогда землянские и потянулись. И хоть собирались недружно, но если надумывали, то шли деловито и строго.
Дед Дементий и тот не удержался — пострелял маленько вокруг села из своей берданки. И так хорошо пострелял, что, когда отряд двинулся от родных мест, Мудреных Ефим и другие командиры стали сманивать деда с собой — будешь, мол, учить у нас новобранцев. Дед вгорячах согласился. Но скоро обнаружилось, что учитель он никудышный — нервный и бестолковый. На первых же стрельбах дед Демка побил хворостиной многодетного партизана Кузьму Прилукова, за что был осужден и уволен.
Остается еще сказать, что первой военные действия против колчаковцев открыла в Землянке вдова Василия Комара Евдокия. Через несколько дней после смерти мужа (каратели еще из деревни не ушли) несла она с реки выполосканное белье в тазу. И тут за ней решил приударить один из колчаковцев. Стал за круглые локти трогать, по плечам гладить.
— Ну-ка, кавалер, подержи таз, — мирно сказала Евдокия.
Колчаковец, выпятив грудь колесом, принял таз. Евдокия взяла лежащий поверх белья тяжелый валек и сплеча тяпнула ухажера в левый висок. И так она расчетливо это проделала, что еще успела подхватить из рук повалившегося колчаковца таз — чтобы белье в пыли не вывалялось.
Были этому делу свидетели. Как раз через лужок шли два солдата от Манефы Огольцовой, несли четверть первача. Тот, который держал самогонку, увидев, как Евдокия приласкала их товарища, выронил бутыль. Самогонка из лопнувшей бутыли вытекла, но не разбежалась мелкой лужей, а, к счастью, вся собралась в ямку. И там стояла. Выпавший ночью снежок растаял, земля, видать, досыта напилась влаги — не хотела больше принимать.
— Уйдёт! — сменившись с лица, крикнул первый и пал на четвереньки.
Второй срочно к нему присоединился.
В общем, дули они эту самогонку из луночки, стукаясь лбами, пока им трава в рот не полезла.
Первый солдат, как более проворный, вылакал больше и в результате сгорел. Выходить его ничем не смогли. Второй выжил, но временно повредился мозгами и никак не мог припомнить: сколько же их из лунки хлебало — двое или трое.
Так что крестника Евдокии начальству тоже пришлось списать на самогонку.
Смерть деда Дементия (Рассказ грустный, а поэтому короткий)
В этот день Татьяна недосмотрела — и рябенький цыпленок утонул в бельевом корыте. Собственно говоря, Татьяна не то чтобы недосмотрела — она тяжелая была, ходила последние дни, и когда этот паскудный цыпленок скаканул в корыто, у нее недостало проворства выхватить его обратно. И он утонул.
— Ах ты раззява! — закричала на сноху бабка Пелагея. — Ах ты телка рязанская, голодранка! Ах ты курва приблудная! Ты цыплаков мне топить?! Наживать добро — тебя, кособокой, нету!.. — С этими словами бабка Пелагея схватила скалку и хлестанула ею Татьяну по плечу. Правая рука у Татьяны повисла плетью.
— Ведьма! — горько сказал отдыхавший на печи дед Дементий. — Ведьма, туды твою в мышь! — и выдернул из-под головы валенок. — Вот я тебе, ведьме, бока-то обровняю!
Дед Дементий учил жену не вожжами, как другие мужики, а исключительно валенком. Бил он ее, по мягкости характера, голяшкой, отчего ущербу бабке Пелагее не было почти никакого, а пыли и крику получалось много. На этот раз, правда, сильно осерчавший за беременную сноху, дед Дементий побил бабку головкой валенка. Пыли получилось меньше, а крику больше.
Однако распалившемуся деду и этого показалось мало. Он выскочил на двор, запряг в пароконную бричку двух чалых кобылок, положил в задок бочонок с дегтем и выехал за порота.
— Поживи тут без меня! — сказал он жене. — Помотай сопли на кулак!
Бабка Пелагея, привалясь к воротному столбу, для порядка голосила.
За бричкой — хвост трубой — весело бежал жеребенок.
Сын деда Дементия Прохор наблюдал за всем этим с угрюмым любопытством. Стоял, руки в брюки, словно бы посторонний, — ни отца не уговаривал вернуться, ни мать не утешал.
— Прошка! — жалостливо крикнул дед Дементий. — Жеребенка-то прибери! Он те пригодится, туды твою в мышь!
Обыкновенно дед, после очередного скандала с бабкой, уезжал аж за самую околицу. Там он треножил кобылок, часа два-три курил на травке, отходя душой, и к ночи возвращался. На этот же раз дед далеко не уехал. Только он поравнялся с лавкой, как в тележный скрип вплелся посторонний звук — резкий и захлебистый. Звук явно доносился с дедовой усадьбы. Дед переменился с лица и стал круто заворачивать, матерясь и охаживая кнутом утонувших по самые уши в хомутах кобыл.
Дед Дементий не ошибся. Голос принадлежал его только что народившемуся внуку Якову.
…Сразу же события круто изменились. Изменились и лучшую сторону. Дед Дементий помирился с бабкой. Бабка Пелагея так расчувствовалась, что зарубила еще двух цыплят — специально, чтобы варить из них Татьяне похлебку. Этот небывалый факт в доме Гришкиных, где бабам даже по престольным праздникам давали одно яйцо на двоих, Татьяну настолько потряс, что она туг же простила бабку Пелагею.
По случаю рождения внука дед Дементий созвал гостей и выставил угощение: две четверти самогону и ведро квашеной капусты. Гости пили, ели, плясали и вместе с хозяином забыли, что утром надо везти сдавать хлеб. Да так забыли, что прогуляли еще полный день. Прохор, правда, не забыл. Он сам был назначенный от сельсовета отвечать за десять подвод, а поэтому, цепляясь за плетни, кое-как обошел свои дворы, всем стукнул в окошко и напомнил. Забыл Прохор только одно: хозяева как раз пили у него в доме самогонку. Но это бы все еще ничего, не случись в избе у деда Дементия анархии. Сват его, Егор Ноздрев, который все время мучил гармошку и глухо бормотал одну и ту же припевку:
Ширянай, купырянай, ковырянай, рябой,
Хватить, довольно, погуляли мы с тобой!.. —
этот сват под конец второго дня одичал вдруг и, растянув мехи, рявкнул:
Как Мунехин да Ерохнн
Плетуть лапти яэыком!
Не було б такого счастья —
Не ходили босяком!
Дед Дементий, хотя тоже и пьяный был, сообразил, однако, что добром это не кончится.
Так оно и вышло. Утром товарищи Мунехин и Ерохин прогнали по улицам подводу. Особенно непримиримо выглядел моложавый товарищ Мунехин. На подъемах он забегал сбоку и молча хлестал лошадь кнутом, и глаза у него были белые. Возле ворот нетчиков они останавливались и приколачивали тяжелые, полсажени на полсажени, доски. Выбор досок был небогатый:
ЗЛОСНАЙ КУЛАК МИРОЕТЗЛОСНАЙ ПАТКУЛАЧНИКДеду Демке они повесили злостного подкулачника.
Дед воспринял доску болезненно. Накричал даже на Прохора, чтобы тот оторвал ее в такое дышло. Никак он не мог поверить, что Советская власть в подкулачники его зачислила.
— Мунехин это зачислил, сукин кот! — шумел он. — У него ведь всякий кулак, кто картошку чищеную ест! А где он был, когда мы с Ефимом Мудреных за эту Советскую власть жизни клали?!
В словах деда Дементня, хотя и вгорячах сказанных, кое-какой резон все же имелся. Жизнь за Советскую власть они с Ефимом не сложили. Мудреных, правда, еще два раза ранен был, а сам дед целый вышел, даже царапины не получил. По что касается товарища Мунехина, он, верно, по малолетству воевать не мог, хотя сознательным уже тогда был. Мунехин с родным отцом не ужился, пацаном ещё пошел работать по чужим людям, и как нанимался к какому мужику, так сразу объявлял, что будет считать его кровососом. Из-за этой своей занозистости он подолгу нигде не держался и уходил назад в чем пришел. Теперь товарищ Мунехин шерстил землянских мужиков, которые покрепче, безо всякой пощады.
Товарищ Ерохин сам был в трудном положении. Он, как человек в деревне новым и местных условий не знавший, при народе с Мунехиным не схватывался — полагал это дело неполитичным. С глазу же на глаз, по слабости характера, не умел его переупрямить. А не переупрямив, считал себя обязанным ходить заслед и тоже строжиться, чтобы какую-то линию все же соблюсти.