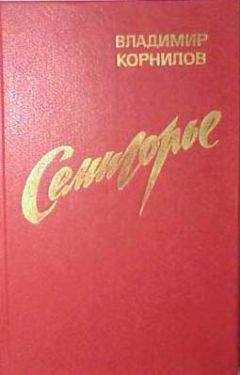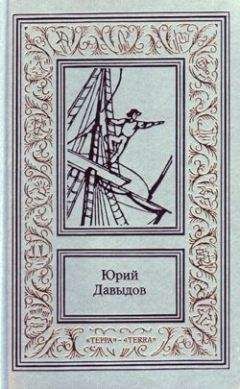На следующий день вместе с Витей Гужавиным он пошёл в военкомат. Вернулся до неузнаваемости злой, сидел дома, смотрел газеты, ждал отца.
Разговор с Иваном Петровичем был в её присутствии, и, может быть, только тогда, слушая их разговор, она до конца поняла своего Алёшу. Он откинул газету отцовским жестом и обиженно заговорил:
— Папа, ты не мог бы убедить военкома? Человек получил право распоряжаться нашими судьбами и не хочет понять, что мы нужны на фронте…
— Вероятно, ты не один так думаешь, — ответил Иван Петрович, стараясь не показать, что у него тоже есть свои обиды. — Что тебе сказали?
— До осени гуляйте. Нужны будете — вызовем. Так сказали!
Иван Петрович сидел боком к столу с выражением какой-то грустной рассеянности на лице.
— Ты вот что учти, — сказал он, пальцами поправляя очки. — Тебя могут вообще не призвать в армию. У тебя сильная близорукость. Мне, например, отказали по этой самой причине…
Алёша тогда не разобрался в скромном достоинстве отца — слишком был переполнен своими оскорблёнными чувствами. Он почти кричал:
— Но у тебя ещё и сердце?! А я? Ворошиловский стрелок — раз, охотник — два, лыжи, бег, водный марафон… Нет, папа! Если меня не возьмут — умру от стыда. Убегу, уползу, с охотничьим ружьём уйду, а воевать буду!
Елена Васильевна почувствовала, как словно в пустоту упало сердце. Подумала. «И убежит. Она его не остановит. Даже Ниночка не остановит!..»
Иван Петрович, видимо, тоже понял, что сын не шутит. Примиряя его с необходимостью, сказал:
— Хорошо. Возьмут — поедешь… Что ты думаешь делать до осени?
— Об этом и хотел говорить!
Иван Петрович думал, пальцем отстукивая по столу.
— Занять тебя просто, — сказал он. — Надо другое: должна быть отдача, и — быстрая… Курсы открыли при МТС. Месяц учёбы, месяц работы — подойдёт?
Он вопросительно смотрел на Алёшу. Потом перевёл взгляд на Елену Васильевну.
— Как, Лен, одобряешь?
Она молча кивнула: всё-таки ещё два месяца Алёша будет рядом.
Так «на пока», до какого-то страшного, кем-то уже назначенного дня, определилась жизнь её Алёши.
А неожиданное признание Ивана Петровича её даже разволновало — от утаённого его порыва пахнуло боевой романтикой тех прежних, революционных лет!
Елена Васильевна с ровным нажимом крутила ручку машинки, сосредоточенно направляя под иглу материю.
Алёша отнёс сковороду в кухню и теперь пил чай. Низко клонясь к столу, он старательно закрывал чашкой рот и нос до самых глаз и нерешительно поглядывал из-под выцветших своих бровей. Он хотел и стеснялся говорить.
Нетрудно было догадаться, что томит её Алёшу.
Облегчая сыну шаг к откровению, она спросила:
— Как у тебя с Ниной?
Алёшка вспыхнул, закрыл лицо руками. Так сидел с минуту, не дыша, потом опустил руки, елозя чашкой по столу, сказал:
— Всё кончено. И виноват я сам… — Он сказал это мрачно и с такой безнадёжностью, что Елена Васильевна перестала шить.
— Что случилось? — спросила она встревожено.
— Не знаю, мама, не знаю… Я уступил своим низким чувствам, и вот… Скажи, мама, что делают девушки, когда их… ну, вдруг поцелуют?..
Елена Васильевна едва успела скрыть улыбку.
— Обычно убегают, — сказала она.
— Ну, а потом?
— А потом делают вид, что ничего не было.
— Правда? Это правда?! И это их не обижает?..
— Думаю, что нет. Это их смущает…
Алёшка вскочил, обежал стол, ткнулся горячим лбом в её шею.
— Ты у меня хорошая, мама! Я просто не знаю, что бы я без тебя делал!
Он скрылся в комнате и скоро появился в своём первом настоящем костюме — она сама, на свой вкус, выбрала костюм в областном центре и купила ему в подарок. К восемнадцатилетию. Три месяца назад.
Тёмно-серый костюм и белая рубашка-апаш очень шли ему, особенно к теперешнему его загорелому и похудевшему лицу, к его высокой, отлично сложенной фигуре. Похоже, он чувствовал это сам, — проходя мимо зеркала, взглянул на себя, засмеялся.
— Я, мамочка, пойду. Ладно?.. Боюсь, что у меня последний вечер: завтра практика, а послезавтра едем на уборку. Ты чувствуешь, кем становится твой сын? Я уже задумал, мама, — первый мешок заработанного зерна положу к твоим ногам. Сто раз спасибо тебе, мамочка! Я так переживал этот дурацкий поцелуй…
«Боже! — думала Елена Васильевна, провожая Алёшу взглядом. — Война и — поцелуи! И теперь эта работа на полях! Как всё сложно! И как всё просто. Как всё близко одно от другого!..»
5
К вечеру Женя Киселёва своим ХТЗ подтащила бывший разуваевский, теперь молодёжный «Коммунар» к краю поля.
Иван Митрофанович и два семигорских старика делали в поспевшей ржи прокос для трактора. Иван Митрофанович приподнял с головы белую полотняную фуражку, приветственно помахал, снова взялся за косу.
Витька спустился с мостика, пошёл прокосом, по-хозяйски осмотрел места разворота. Он был деловит, озабочен и кому-то явно подражал.
— Лёгкое поле, ровное. Для почина в самый раз, — сказал он, возвратившись. — С него начнёшь поутру, как обсохнет.
— Может, сейчас кружок махнём? — робко предложил Алёшка, ему не терпелось опробовать себя и комбайн в настоящей работе.
— На разворотах ещё не обкосили. Хлеба помнём. Завтра к семи, как из пушки! Ты извини, Лёха, но мне в мастерские — ещё два комбайна выводить… — Он перескочил канаву, трактом размашисто пошёл к селу.
Он изменился, Витька, с того мартовского метельного дня, когда, оскорблённый Капитолиной, ушёл из отцовского дома. Изменился не тем, что вырос, поокреп — по плечам и по росту он и Алёшка шли вровень, как два дерева из одного корня. По заботам обогнал — ушёл и от Волги, и от рыбалки, от вечерних разговоров про чувства и стихи. После работы в химлесхозе он как-то сразу перешагнул себя прежнего.
Возвратился и как будто прилип к Макару — весь ушёл в шестерни, поршни, шатуны, ремонтировал с ним трактора, машины, комбайны. И почти не вылезал из МТС: ходил измазанный, промасленный, с побитыми, неотмываемыми даже в солярке руками, довольный неизвестно чем. Витька нашёл какое-то новое измерение жизни и время отсчитывал теперь не часами — работой. Если ему удавалось втиснуть в день недельное дело, он шёл домой, под разуваевскую крышу, медленно переступая, будто в пудовых сапогах, с пьяной от радости улыбкой на толстых неуклюжих губах и нёс в пропахшей керосином руке обязательный пучок луговых ромашек — для тётки Анны.
Повзрослел Витька особенно за последний месяц, после того как Макар передал ему все ремонтные дела в обезлюдевшей МТС и ушёл на войну.
Алёшка сейчас завидовал Витьке — его рабочей хватке, озабоченности, с которой он жил. Кажется, он начал понимать, что взрослеют не годами — взрослеют ответственностью, когда принимают её на себя.
… Чистое утро быстро обсушивало травы. Когда Алёшка после короткой ночи, ещё сонный, подошёл к полю, трактор Жени Киселёвой работал на холостых, кидая в воздух тёмные дымки. Витька лазил по комбайну, оглядывал цепи. Он был в выцветшей майке-безрукавке, плечи и локти успел измазать.
— Глянь хлеба — не влажны? — крикнул он Алёшке, в озабоченности забыв его поприветствовать.
Алёшка шагнул в рожь. Рожь была высока — колосья клонились прямо к лицу — рукой нагнул, провёл по гладким шелестящим стеблям. Пропустил сквозь кулак тугие усатые колосья, слегка сдавливая, как показывал ему Витька, поглядел на ладонь — суха. Утопил руку в сорном травяном подросте — рука сразу овлажнилась.
— Рано ещё, Вить, — сказал Алёшка, показывая ладонь. — Рожь обсохла, а трава росная. И густая — забьёт!
Витька подумал.
— Время жалко! На первых кругах срез повыше поставишь… Заводи?..
Он и разрешал, и спрашивал, как бы давая Алёшке самому определить свою готовность к первой самостоятельной работе. И всё-таки, когда Алёшка поднялся на мостик и взялся за ручку мотора, обеспокоено скрестил на груди руки, стиснул плечи, наблюдая!
Мотор завёлся с третьей попытки, треском своим заглушил ровное урчанье трактора. Алёшка установил холостые обороты, положил на железное колесо штурвала будто чужие руки. Покрутил, опуская хедер и снова поднимая выше. Почувствовал, как от напряжения побежали струи пота из-под волос, по шее, на спину.
Женя оторвалась от трактора, с ключом в руке подошла к мостику, запрокинула голову, по брови повязанную косынкой, смеялась. Что-то крикнула, но Алёшка, оглохнув от треска мотора и волнения, не расслышал, в ответ только покрутил рукой около уха. Женя сказала что-то Витьке, теперь они смеялись оба, а Алёшка, словно прилипнув к штурвалу, всё пробовал, как опускается и поднимается хедер.
Витька влез на мостик, встал позади.
Впрыгнула на гусеницу трактора Женя, держась за кабину, ждала сигнала. Алёшка, замирая, будто падая с десятиметровой вышки в воду, включил рабочий ход. Комбайн загрохотал всем своим железным нутром, шевельнулось и как-то нехотя закрутилось над землёй мотовило. Алёшка установил газ, взялся руками за штурвал и, тяжко вздохнув и закрыв на минуту глаза, кивнул Жене.