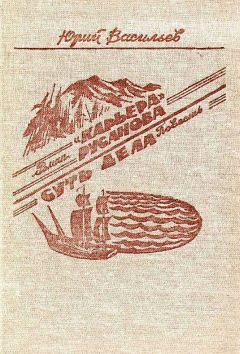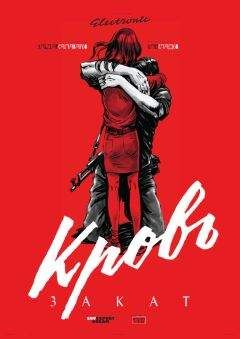— За пультом управления стоит Николай Данилович Басов, который этих слов отродясь не слышал.
— Какой молодец! На нем одном все держится?
— У меня еще несколько человек, но все они тоже Басовы, — сказал Гусев, удивляясь, почему он до сих пор терпит этого назойливого типа. — А тех, которые не Басовы, мы давно уволили.
— Ну а смежники, например? Не подводят?
— С какой стати они должны нас подводить?
— Да будет вам придуриваться! Вы что — инопланетянин? «Зачем да почему?» Потому что таков закон производства на данном этапе.
— Что вам надо? — разозлился Гусев. — Кто вы такой?
— Да так… Человек со стороны. Прикидываю. Завтра один из ваших Басовых запьет, второй не ту перфоленту в автомат сунет, потому что надоест ему с машиной разговаривать, третий… А у смежников — внезапная реконструкция, недопоставки. И — хана вашей линии. Вы хоть для подстраховки кое-какие станки оставили? Нормальные. Чтобы человек рабочим себя чувствовал, а не придурком при компьютере… Мечтатели! — сказал он противным голосом. — Энтузиасты! Я про этого Басова все знаю. Даром, думаете, его с завода поперли?
Он хотел что-то еще добавить, но тут электрокар сбил его с ног, Гусев бросился на помощь, но человек тихо и бесшумно растаял. Гусев выругался и открыл глаза. За окнами едва рассветало.
«Фу ты, чушь какая», — сонно пробормотал он и повернулся на другой бок, успев подумать, что надо выспаться: завтра трудный день.
— На пенсии выспитесь, — сказал Липягин, въезжая в цех на коляске. — Работу вашу одобряю. Выше всяких похвал. Когда приступите?
— Как только лимиты выбьем, — пояснил подкативший на автокаре главный технолог.
— Как только согласуем во всех инстанциях, — добавил сидевший рядом с ним неизвестно кто.
— Как только рак на горе свистнет, — произнес вновь возникший из небытия человек в комбинезоне.
— Слышали? — спросил Гусев.
— Нет, — удивился Липягин. — А что я должен был слышать? Я вам верю безоговорочно. Вы очень счастливый человек. Только, как все счастливые люди, вы этого не замечаете.
Кибернетическая феерия постепенно стала рассеиваться, обретая привычные формы захламленного, дымного, переполненного людьми цеха.
— Какой же я счастливый? — покачал головой Гусев. — Вы только гляньте! Теперь всю эту неуклюжую действительность снова надо превращать в реально существующую фантазию.
— Поэтому вы и счастливый, — сказал Липягин, — что вам все это надо.
На этот раз Гусев проснулся окончательно.
— Ты чего улыбаешься? — спросила Оля.
— Заулыбаешься… Совсем твой отец сдурел. Видел во сне завод-автомат двадцать первого века.
— Понятно… Стекло и алюминий. Второй сон Веры Павловны.
— Какой еще Веры Павловны?
— Из романа Чернышевского «Что делать?» — Она рассмеялась. — Я вот тоже думаю — что делать? Совсем ты у меня неграмотный!..
Балакирев был человеком пунктуальным, то есть, попросту говоря, старался держать слово, вовремя выполнять свои обязанности, не опаздывать, был аккуратным, и эти изначальные качества делового человека, основательно теперь подзабытые, легко можно было принять за педантизм.
Вот и сейчас, прилетев ночным самолетом, толком не выспавшись, он ровно в девять был в кабинете. Зиночка принесла чай.
— Я покрепче заварила, — сказала она. — У вас усталый вид.
Балакирев оглядел кабинет и словно увидел его заново. Телевизор… Интересно, его хоть раз включали? Образцы продукции под стеклом. На кой черт? Потому что так принято? А пыли на них вон сколько… Ладно, приступим. Он снова покосился на календарь: в двенадцать часов Гусев, после него — Черепанов. Герой дня!.. Он вспомнил растерянность Калашникова, когда секретарь обкома одобрил выступление Черепанова. Растерянность — не то слово. Его подрубили под корень. Можно себе сказать, что Калашников — это вчерашний день. А он, Балакирев, выходит, сегодняшний? Тоже ведь ждал головомойки, хотя на Черепанова озлился совсем по другому поводу: вовсе не обязательно было для утверждения своей правоты сперва согласно кивать, а потом всех дураками выставить…
Он представил себе, как вызовет Черепанова и скажет: «Я ценю вашу отвагу, готовность грудью закрыть амбразуру, но, поверьте, мне спокойней работать с людьми, от которых я вправе ждать честного и открытого противоборства!» На что Черепанов ему ответит: «Да полно вам, Дмитрий Николаевич, вы-то как раз и не вправе ждать открытого противоборства. Признайтесь, вы пережидали, отсиживались во втором эшелоне, говорили себе: вот когда меня утвердят, посадят в кресло, тогда… А пока — зачем дразнить гусей? Гражданское мужество нынче дорого стоит. Карпов, помните, как обтекаемо выразился: «Трибуна рабочего — это трибуна, с которой директору не всегда позволено говорить». Я бы поправил: с которой он сам себе не позволяет говорить, если это чревато…»
И что я ему отвечу?
А Гусев? Он ведь тоже чуть не врукопашную сражался за свою идею, но в том-то и суть, что врукопашную. На все был готов, чтобы ему не мешали работать над коляской. Никто мешать не собирался? Вбил себе в голову? Пусть так. Но раз такое вообще могло ему представиться, значит, это не столь уж и невероятно…
Зина принесла скопившуюся за последние дни почту. Он бегло пролистал бумаги, потом взгляд его остановился на бланке с грифом Госплана. Это была копия официального ответа на статью Можаева. Балакирев прочитал. Обыкновенная справка, не более. Таких он читал сотни, особенно когда работал в патентном бюро. Пора бы привыкнуть. Но сейчас ему стало стыдно. Как будто он сам сочинил и подписал этот документ, удостоверяющий его личную несостоятельность, неспособность решить проблему, которую и проблемой-то называть неприлично.
— Вызовите Гусева, — сказал он секретарше.
— Так ведь к двенадцати…
— Вызывайте!
Он еще ничего не решил, но сейчас был тот самый случай, когда надо было решать. Не врукопашную, не с черного хода, а с трибуны, с которой позволено и должно говорить всем…
Гусев сел напротив.
— У меня через полчаса стендовые испытания, — сказал он.
— Мы уложимся, Владимир Васильевич… Третьего дня в Москве я рассказал приятелю, как вы решали снабженческие проблемы. Посмешней старался рассказать, а он даже не улыбнулся. Он сказал: «Неужели у вас так плохо?» Вот и я тоже спрашиваю: очень плохо, да?
— Как раз третьего дня я тоже встретился со своим товарищем, — после паузы сказал Гусев. — Он просил меня дать ему рекомендацию в партию. Я отказался, потому что не имею морального права. Я один из виновников того, что у нас укоренилось убеждение, будто мнение большинства — всегда истина, даже если это большинство потому лишь поддакивает, что ему все равно; укоренилась боязнь, что нас кто-то, где-то не так поймет. Но ведь эти «кто-то» и «где-то» — это мы сами! Моя личная вина в том, что я старался бороться против отдельных людей, считая, что они — главное зло, лез на рожон, а надо не чертополох по стебельку выдергивать, а поле перепахать, чтобы на нем вообще не могли расти сорняки! — Он посмотрел на часы. — Дмитрий Николаевич, это разговор не на полчаса. Вы ведь меня не за этим позвали?
— И за этим тоже. Но главное — вот. — Он протянул ему ответ Госплана. — Посмотрите там, где я галочкой отметил.
— «Выпускаемые в стране кресла-коляски, — стал вслух читать Гусев, — в настоящее время весьма несовершенны. В связи с этим намечено организовать производство средств передвижения для инвалидов по лицензии одной из ведущих фирм в количестве…»
Гусев отложил бумагу.
— Все ясно. Купили лицензию, никаких забот. А могли бы сами продать. — Он поднялся. — Ну что ж, спасибо Дмитрий Николаевич, утешили. Угомонили общими усилиями.
— Вы дальше читайте, там самое главное.
— «Коляски, на которых можно передвигаться по лестницам и которые столь необходимы сейчас в городах, по-прежнему выпускаться не будут за отсутствием технологически приемлемой модели»… Вот именно — за отсутствием! Чего суетиться? Через несколько лет снова купим, валюты куры не клюют. — Он посмотрел на Балакирева. — Вы это называете самым главным?
— Это самое.
— Видимо, я тупица. Я считаю это откровенным признанием того, что большинство наших конструкторов даром едят хлеб. Если, конечно, они не стесняются себя так называть.
— Вы не стесняетесь?
— Ни в коей мере! — вызывающе сказал Гусев.
— Потому я вас и пригласил. Было бы очень вовремя напомнить некоторым товарищам, — он отодвинул от себя госплановскую бумагу, — что мы умеем не только щи лаптями хлебать, мы еще кое-что умеем… Вы не слышите в моем голосе интонаций инженера Гусева?