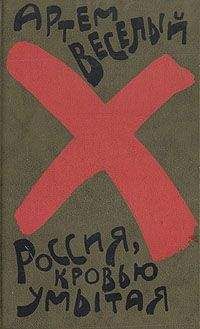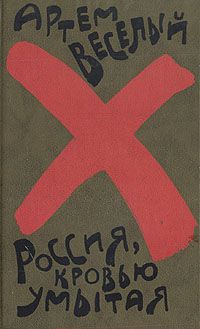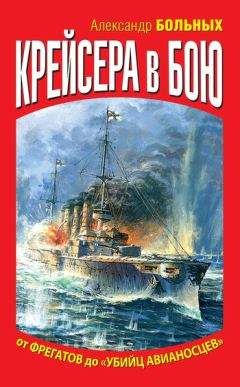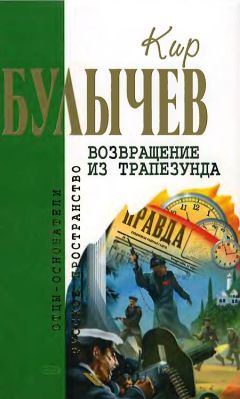Толпа сдержанно загудела и стихла, теснее сгрудившись к пожарной бочке, с которой говорили ораторы. Кроме кандауровцев тут были сотни мужиков из других сел.
Оробевший Фролов, волнуясь и заикаясь, заговорил было на своем родном языке. Митька крикнул:
— Будя лаять по-собачьи, говори, как люди говорят. Фролов смешался еще больше и замолчал… Потом, спотыкаясь на каждом слове, заговорил по-русски:
— Я — местный житель… Двадцать пять лет… Холост… Отец служил конюхом в именье Шаховского… Был у меня старший брат Иван, тридцати лет, с отцом разделился, умер в холерный год… Я — местный житель… Кто меня знает — тот знает, а кто не знает — тот пусть знает и дальше передаст, чтобы знали… Я бедного состояния, имею одного жеребенка и мать, слепую старуху… До царской войны был я как темный лес… Работал в работниках у мельника Данилы Ржова… Вот забрали на службу, погнали под город Перемышль…
Из толпы голос:
— Это мы знаем… Ты лучше расскажи, как у красных служил да народ тиранил?
Видя перед собой много знакомых односельчан, Фролов быстро справился со своим волнением и заговорил бойчее:
— Каюсь, служил… С первого шага войны я пошел с Капустиным в ногу, каюсь. Воевал между гор и камней, по степям и лесам, каюсь… В армии мне вдолбили в голову грамоту, могу теперь немного разобраться что к чему, каюсь: уж лучше остаться бы мне темным, как пенек, и таскать чужие мешки на горбу… Он, Данила Ржов, хороший был человек, спасибо ему, кормить досыта два раза в году кормил, на пасху да рождество, а воды из-под мельничного колеса давал вволю… А еще вам покаюсь, как кинулись мы в атаку на город Бузулук, то и пришлось мне около вокзала вот этой самой рукой зарубить сынка нашего помещика Сергея Владимировича, был он в погонах поручика и при полной форме… Каюсь, грабил… Уходил из дому, была на мне гимнастерка и шинель, в гимнастерке вши наши деревенские, а нынче, — трясущимися пальцами он расстегнул ворот, — сосут меня блохи уральские, вши уфимские, вши вятские…
Бородатые лица слушателей кое-где осветились улыбками… Борис Павлович зашептался с членами штаба. Фролов ничего не замечал, говорил торопливо, ровно со снежной горы катился:
— На фронте меня два раза ранили, плавал я в гною, плавал в крови, каюсь; сидеть бы мне дома да жевать пироги с горохом… При царе мы, чуваши, плохо жили: начальство русское, суд русский, училище русское… Всей землей кругом владел помещик князь Шаховской… Не было у нас ни лугов, ни выгона, под кладбище участок и то арендовали у князя. Правду я говорю, старики?
— Истинно, Гришутка, так и было! — поддержал дед Леонтий. — Пошли мы, стало быть, к его сиятельству Владимиру Юрьевичу просить землицы. Он затопал на нас, черным словом выругался и говорит: «Когда вырастет у меня шерсть на ладонях, тогда и землю получите», — и приказал служителю толкать нас в шею… Истинно было.
— А помните станового пристава Лукина, как он наезжал со стражниками собирать с нашей Кандауровки недоимки?..
— Помним.
— Помните земского начальника Повалишина, того, который…
— Помним, помним…
— В революцию наша волость получила лес и луга монастырские, озеро и угодья помещичьи, земли прирезано на душу по десятине с осьмой… Скажу правду, мне все равно смерть. Вернулся я с фронта, побыл в родном селе с месяц и вижу — действительно, житье стало никудышное: сосед мой Трофим Маврин едал, бывало, мясо по большим праздникам да в деловую пору, а ныне две кадушки насолил свинины и баранины; бывало, напивались вы только по праздникам, а ныне изо дня в день пьяны… Бунтуйте, граждане! Долой советскую власть… Вот за этими чертями, — он ткнул в грудь Митьку и Бориса Павловича, — придет Колчак-генерал, придет Деникин-генерал, приедет в коляске его сиятельство князь Шаховской — они вас накормят… А еще я, полуслепой, хотел сказать словечко слепым товарищам дезертирам… Товарищи дезертиры!..
Митька прикладом сшиб Фролова с бочки, поднялся над толпою и начал говорить сам:
— Друзья, это есть шпион, который подкуплен коммунистами… Мы таких будем вырывать с корнем… Они больше всего мутят воду…
Не успел еще Митька досказать свою речь, как акт правосудия был свершен: Ероха Карасев за волосы поднял над толпой и потряс отрубленной головой красноармейца.
Толпа охнула и попятилась.
— Не расходи-и-сь! — грозно крикнул Борис Павлович. — Собрание продолжается.
— Ты не ори, — подступил к нему солдат старой службы Молев, — надел очки-то, думаешь, страшнее тебя и зверя нет?.. Мы ныне и сами во всех кровях купаны… Людей вам не дадим!.. Подвод не дадим!.. — Он крепко выругался.
Фельдшер Докукин, что проживал в селе уже годов сорок и пользовался большим уважением, отсунул Молева и за всех ответил:
— Трудно, а терпеть надо… Авось и перебедуем… От советской власти мы не отрекаемся и смутьянам не потатчики.
Из всего кандауровского общества вызвался охотником один старичишка солдатской выхвалки, Зотей, служивший когда-то в городской тюрьме стражником. Митька подарил ему серебряный полтинник и назначил начальником разведки одного из полков.
А ночью конная полусотня белоозерцев покинула ряды и ускакала ко дворам. За ними в одиночку и небольшими шайками потекли по домам восстанцы и других сел. Тогда штабом был сформирован летучий отряд… по борьбе с дезертирством.
В деревнюшке Муровке на все призывы восстанцев сход отмолчался.
В мордовском селе Матюшкине жители попрятались в погреба, в картофельные ямы, по гумнам зарывались в мякину.
— Псы моргослёпые, — ругался Митька, — гни их, Борис Павлович, круче, не отвертятся.
По распоряжению начальника штаба матюшкинцы были согнаны на митинг плетями.
Борис Павлович, без излишней канители, прочитал заранее заготовленную резолюцию, которая кончалась словами: «Долой вампиров-коммунистов! Долой советы! Да здравствует Учредительное собрание! Все в ряды народной армии!» — после чего обратился к обществу:
— Голосую. Кто — за?
Молчанье.
— Кто против?
Молчанье.
— Принято единогласно. Старики, подписывайтесь.
И поползли по листу каракули грамотных. Неграмотные, мусоля химический карандаш, ставили кружочки и кресты.
— Бараны, — говорил в дороге начальник штаба, — забиты царской властью и комиссарскими кулаками, пользы своей не понимают… Помяните мое слово, Дмитрий Семенович, одержим первые успехи, возьмем город, и лапотники тысячами повалят в нашу армию, как во время Пугачева и Разина.
— А я на Пугачева похож? — спросил Митька, приосанясь.
— Постольку поскольку наше движение является общенародным и мы, так сказать, возглавляем стихию крестьянского гнева, история не пройдет мимо наших имен молча…
Хвост армии путался еще где-то в Хомутове и дальше, когда головные полки уже входили в Дерябинские хутора, что под самым городом. Было решено устроить тут дневку, пока подтянется побольше народу, и ударить на город скопом.
Избы были набиты народом, как мешки горохом. От духоты и говора, казалось, крыши готовы были подняться. И на улицах, и вокруг по снежной степи, и в лесочке, привалившемся к хуторам, — всюду переливались беспокойные огни костров, гудели голоса, распряженные лошади жевали сено, и вздернутые оглобли точно угрожали неведомому врагу.
Невдалеке заложенными цугом лошадями восстанцы гнули в дугу рельсы.
По большаку, на выносе из хуторов, около черной стены леса, как большое вымя, стоял костер и сочил в облака сырой дым. Фельдфебель Когтев сучковатой палкой мешал кашу в артельном котле и рассказывал про Карпаты.
В круг огня въехал парень в городской суконной бекеше.
— Здорово.
— Здорово, приятель, откуда?
— Из города.
— Да ну?
— Где у вас главный?
— Зачем тебе?
— А ты веди давай, брось ушами хлопать, с делом я. — Приехавший спрыгнул с седла и, выхватив из-за пазухи, махнул белым пакетом.
Когтев повел его в штаб.
Штабом был занят каменный дом кулугура Лукьяна Колесова. Мать его, Маркеловна, согнутая старостью пополам, как слепая тыкалась по горнице и охала:
— Вражищи, напасти на вас нет… В избе-то у нас помолено, а вы всё продушили, табашники, богохульники, бритоусцы…
Митька в сапогах и в полушубке, грянувшись лицом вниз, спал в пышной постели. Члены штаба пили чай с клубничным вареньем и сообща составляли инструкцию о выборах по селам крестьянских комитетов, кои и должны были на первых порах заменить советы.
Борис Павлович прочитал привезенное из города письмо и принялся будить командующего:
— Дмитрий Семенович, важное сообщенье…
Тот только мычал и во сне скрипел зубами.
— Дмитрий Семенович, начальник гарнизона Глубоковский обещает сдать город без боя.
Митька поднялся и тяжко зевнул: