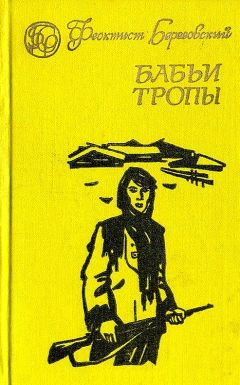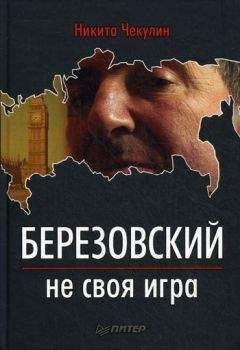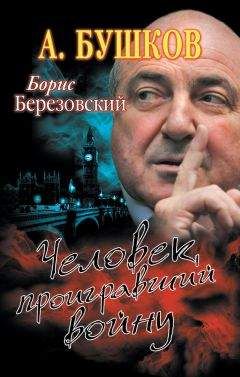— Мать честна!.. Что наворотили хлебушка-то!.. Жуй, Советская власть… вдоволь!..
Мужики, шагавшие около телег, оглядывались на деревню и на провожавших и приветливо махали им шапками.
А от кузницы вслед обозу неслось:
— Ур-ра-а-а!..
Никто не знал, по каким делам ездил в волость Филипп Кузьмич Валежников. Вернувшись домой, он долго совещался с Колчиным и со своим работником. После того к работнику Валежникова приходили два раза работники Гукова и Оводова. Оба раза прятались на задворках и в бане и тоже подолгу о чем-то толковали.
Среди недели Арина Лукинишна нагребла из ларя в мешок с полпуда муки, принесла в кухню и послала Маринку за женой Афони — Оленой. Пришла Олена к старостихе. Поздоровалась и притулилась к косяку двери.
— А-а, Оленушка… — ласково обратилась к ней Арина Лукинишна. — Здравствуй, бабонька… Проходи, садись…
— Спаси господь, — ответила Олена. — Постою…
— Чего стоять-то? Садись, — настойчиво и приветливо пригласила Арина Лукинишна.
Но Олена осталась у косяка и повторяла:
— Ничего… пастою…
— Что это, Оленушка, сказывают на деревне? — спросила Арина Лукинишна. — Неуж правда, что твой Афоня последний хлеб в разверстку забрал?
У Олены губы задергались.
— И не говори, Арина Лукинишна… чуть не под метелку.
— Охо-хо, Оленушка, — сокрушенно проговорила Арина Лукинишна. — Не в укор большевикам будь сказано… Сама ты посуди, как жить-то будешь с ребятами?
Олена глотнула слезы и чуть слышно прошептала:
— Господь знает, как и жить-то… Ума не приложу, Арина Лукинишна.
Старостиха посмотрела на слезы, покатившиеся по сухому и желтому лицу Олены. Помолчала. Потом пошла в куть. Взяла мешок с мукой и, подавая его Олене, сказала:
— Не горюнься… Господь не оставит… и добрые люди не забудут… На-ка вот… ребятенкам… С полпуда тут.
Заливаясь слезами, Олена повалилась в ноги Арине Лукинишне.
— Будет, не горюнься. Подымись… А мешочек-то принеси…
— Спаси тебя пресвятая богородица, — прошептала Олена, утирая подолом слезы. — Ужо принесу мешок-то… Знаю, что он теперь стоит…
— И не говори, бабонька, — покачала головой Арина Лукинишна. — Денег стоит. Ваши-то насулили всяких товаров. А все нет ничего. Больше половины деревни ходит в мешках.
Олена молча сморкалась в подол. Замолчала и Арина Лукинишна.
Оправившись от слез, Олена спросила:
— Сказывают, Филипп Кузьмич в волости был.
— Был, — ответила Арина Лукинишна.
— Что слышно там? В городе-то как?
Арина Лукинишна сторожко посмотрела на открытое окно и дверь и полушепотом ответила:
— Только не болтай никому, Оленушка… Поляки, говорят, Москву взяли. А к нам японцы с большим войском идут… По деревням слух идет: антихрист пришел на землю, скоро страшный суд будет… Ох, и времена, господи, настали.
Посерело желтое лицо Олены. Всплеснула она руками.
— Неуж правда, Арина Лукинишна?
— С места не сойти! — побожилась Арина Лукинишна.
Схватила Олена мешок с мукой. Еще раз бухнулась вместе с мешком в ноги благодетельнице. И побежала домой.
В этот день Арина Лукинишна встретила на речке еще двух баб и им по секрету рассказала о взятии Москвы поляками, о приближении японцев и о пришествии антихриста.
А Оводиха рассказала о том же Домне — жене Панфила Комарова. Сам Панфил был в этот день на смолокурне. Перепуганная Домна прибежала домой, упала на кровать и ревела до ужина. Накормив ребят, кинулась она к Акуле — жене кузнеца. Заперлись они в избе. Домна рассказала Акуле:
— Слышь, кума… на деревне-то что говорят… Будто поляки Москву взяли… а японцы с войной подходят к нам… Будто страшный суд скоро будет.
Акуля и сама кое-что уже слыхала. Махнула рукой и с отчаянием заговорила:
— Ох, да хоть бы один конец какой пришел! Измаялась я с холерой косорылой…
— А вдруг, кума, погибнут мужики-то наши? — испуганно прошептала Домна. — Куда мы тогда с ребятами.
— Поди, не все погибнут… Может, для ребят-то и пронесет господь-батюшка. — Акуля опять махнула рукой: — А мне хоть какой конец… все едино… опостылел косорылый черт! Ребят вот жалко… а то давно бы в омут головой…
— Поговорить бы, что ли, кума… с мужиками-то? — спросила Домна.
Акуля скривила лицо.
— Что толку-то? Опять ведь из города Капустин с отрядом идет. Сказывают бабы, теперь скот будут отбирать… и птицу… начисто!
— Да неуж, кума?
Акуля перекрестилась:
— Вот… припомни мое слово, кума… Порешат нас большевики…
— Что же делать-то, кума?
— Молчать надо… Может, все к лучшему обвернется… — сказала Акуля, а на прощание присоветовала: — Другим бабам скажи, кума, пусть язык-то прикусят… Панфилу тоже ничего не сказывай.
— Ладно, — пообещала Домна, выходя из избы и все еще заливаясь слезами.
Оводиха корила на речке Марью Ширяеву и Анфису Арбузиху:
— Карать скоро начнет господь-батюшка деревню-то… А все из-за кого? Из-за ваших… из-за камунистов.
От стыда и злобы Марья сердито хлестала вальком мокрые рубахи, разостланные на мостках. С трудом выговаривала слова:
— Опостылел мне щенок-то мой… День и ночь молюсь… проклинаю!.. Да, видно, прогневала я господа…
Оводиха ворчала, обращаясь к Анфисе:
— Ну, Марьин-то — молодой… щенок и есть… Ты-то что смотрела за своим?
И у Анфисы пылало лицо от стыда. Глотая слезы, она цедила слова:
— Говорила я… Да разве он послушает?
Марья бросила полоскать рубахи и спросила Оводиху:
— Не слыхала, Фекла Митревна, скоро начнется-то?
Оводиха посмотрела из-под руки на небо, перекрестилась и сурово ответила:
— Скоро… ох, скоро, бабы…
— С чего начнется-то?
— Камунистов начнет карать господь-батюшка, — пророчески проговорила Оводиха. — После за других партизан возьмется… Может, и до нас дойдет… Прости, Христос, и помилуй, — истово перекрестилась Оводиха, закатывая к небу глаза.
Охваченные смертельным страхом, Марья и Анфиса тоже крестились и шептали молитвы…
Бегали в эти дни бабы из дома в дом. Перешептывались:
— Слыхала, девка?.. Сказывают, война идет…
— И-и-и, касатка… страшно подумать!..
— Говорят, светопреставленье будет…
— Что ты?!
— Истинный господь!..
— Скоро?
— Как бы на той неделе не началось…
В этот день с утра много стало примет, от которых у белокудринских баб дух захватывало.
Первой тревожной приметой было появление человека из города. Приехал он в Белокудрино на заре и привез бумагу о назначении выборов в сельский Совет и о выборе депутатов на волостной съезд Советов. Сдал горожанин бумаги секретарю ревкома Колчину и тотчас же ускакал дальше в переселенческие поселки.
Весть о приезде городского человека и о назначении выборов облетела деревню спозаранку. Рассказал об этом горбатый пастух Ерема, успевший на ходу побеседовать с проезжим человеком.
Провожая скотину в стадо, бабы тревожно переговаривались:
— Слышь, девка, из города приказ пришел: мужиков будут в Совет выбирать.
— Да неуж?.. Что же будет-то?
— Молчи, девка, ждать надо…
Второй тревожной приметой было появление попа из Чумалова. В прежние годы один раз заезжал поп в Белокудрино — по хорошей зимней дороге. А нынче, после весеннего водосвятия на полях, в третий раз пожаловал. Да еще незнакомых людей с собой привез — каких-то трех военных.
Третья примета заключалась в том, что с полдня забродили над урманом тучки густые и черные: несмотря на то, что лето уже кончилось, в воздухе стояла жаркая духота и где-то далеко над лесом по черным краям неба скользили молнии.
— Не к добру, — говорили бабы, поглядывая на небо и прислушиваясь к писку цыплят и к жалобному поросячьему визгу. — Никогда не бывало в такое время ни молоньи, ни грому.
— Не к добру…
Четвертой тревожной приметой была смерть вороного жеребца у кержака Максунова. Вез Максунов на телеге небольшую кучку овсяных снопов с поля, двух дворов до своей усадьбы не доехал, как зашатался его конь, грохнулся в оглоблях наземь и околел.
А тут еще с попом приехали эти трое военных людей — бородатые, в обтрепанной одежде защитного цвета, в рваных башмаках и обмотках; по обличию как будто городские, из образованных. Ходили они с попом по богатым дворам и в работники нанимались, один нанялся к Клешнину, другой — к Ермилову, третий — к Гусеву.
У Ширяевых в этот день с утра ссора произошла, после которой Демьян и Марья уехали в поле, а старики остались дома.