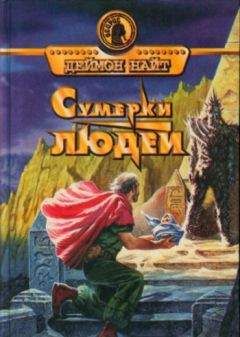Пуськин и бабка в страхе кинулись прочь.
— Я т-тебе! — пригрозил им вслед лавочник и с грохотом захлопнул ставню. Слышно было, как упали изнутри в петли тяжелые железные крючки.
— Ирод! — сказала бабка, вытирая кулачком слезы. Они стояли на противоположной стороне улицы — аж туда убежали. — Ну, не ирод ли? Вот тебе и праздник! Вот и монпасейки!
Мимо них тянулся к церкви принаряженный народ: бабы — в разноцветных ситцевых платках, мужики — в поярковых шляпах, в сапогах, обильно сдобренных дегтем.
Появился из своих ворот, наконец, и Пантелей Кузьмич, тоже принарядившийся. На нем был зипун тонкого сукна, подпоясанный шелковым кушаком. Шляпу он держал в руке, а голову успел смазать лампадным маслом.
Выйдя, он троекратно перекрестился, вежливо поклонился бабке:
— С праздником тебя, Патрикевна!
— Спаси бог, кормилец, — благодарно ответствовала старуха.
Пантелей Кузьмич поклонился также Пуськину:
— С праздником, добрый человек, не знаю, как звать-величать!
Пуськин машинально кивнул.
Пантелей Кузьмич, заложив руку за спину, важно двинулся вслед за народом.
— Обходительный человек! — вздохнула бабка. — Одно слово: благодетель.
В полдень
Возле церкви Иннокентий Васильевич потерял свою спутницу. Вернее, бросил ее. Ненамеренно.
Толпа здесь была огромная, пробиться сквозь неё поближе казалось бессмысленным — вот Пуськин и пристроился за спиной одного человека, интеллигентного с виду, в очках и «господской» шляпе. То ли учитель он был, то ли, может, конторщик. Но перед ним расступались — и Пуськин прилепился сзади. Мало-помалу, со взаимными поклонами (кланялись этому… «учителю», он же чуть кивал в ответ), они протиснулись в первый ряд толпы.
Задрав обнаженные головы, все здесь смотрели на колокольню, с пустыми пока ещё проемами, похожими на распахнутые в крике рты. В один из проемов высунуты были три толстые балки с блоками на них. Веревки, перекинутые через блоки, спускались вниз и привязаны были к ушам стопудового колокола, покоящегося на слегах. Вокруг колокола расхаживал густо заросший волосьями поп, кропил его святой водой.
На колокольне тоже обнаружилось движение. Какой-то человек там мелькал, показываясь то в одном, то в другом проеме.
Сосед Пуськина, козырьком приставив ладонь ко лбу (шляпу он, как все, снял), всмотрелся.
— Егор Пузырев верховодит, — пробормотал. И, не найдя, с кем поделиться, кивнул через плечо Пуськину: — Ну, будет спектакль!
— Какой спектакль? — поинтересовался Пуськин.
— Егоршу Пузырева не знаете? — обернулся «учитель» к Иннокентию Васильевичу. — Не здешний? — И тут лишь разглядел, кто рядом. Смерил Пуськина прищуренным взглядом сверху вниз. И — обратно. И оценил, видать, его опереточный наряд. — Да вы, сударь, не из мужиковствующих ли будете? — спросил насмешливо. — Ну, в таком разе не стану предвосхищать, удовольствие вам портить. Впрочем, какой именно спектакль, и сам не знаю. Но без спектакля не обойдется — уж поверьте.
Егор Пузырев вырос, наконец, в том проеме, из которого торчали балки, ступил на них одной ногой, поднял руку с шапкой.
Толпа стихла.
— Православные! — зычно крикнул Егор. — Приступай!
Из толпы выделились три группы дюжих мужиков, подняли с земли веревки, нанизались на них в очередь, как при игре в перетягивание каната.
— Па-шел! — махнул шапкой Егор.
Мужики враз уперлись ногами в землю, откинулись назад.
Веревки дружно напряглись, колокол дрогнул и мягко, чуть покачиваясь, поплыл вверх.
Мужики, клонясь все сильнее, отпячивались на три стороны, местами тесня толпу зрителей.
На высоте примерно двух третей колокольни колокол вдруг встал.
— Доржи-и-и! — истошно завопили в толпе.
— Не отпущай!
— Навались, родимые!
А мужики и так почти лежали на земле. Колокол стоял, будто впаянный в небесную лазурь.
— Ба-тюшки-и-и! — стонала толпа.
— Ти-ха! — рявкнул сверху Егор. И, дождавшись тишины, неторопливо почесал затылок.
— Не в ефтом дело, однако, — раздумчиво сказал он и поскреб теперь в бороде — словно гадал: «А в чем же дело?» И догадался: — Вот што, православные! Колокол дальше не пойдеть. Видать, грешников многовато тута, промеж вас. За грехи, стало быть, за ваши — наказание.
— Чего буровишь-то?! — крикнули ему. — Ты скомандуй — пущай ишо приналягуть!
— Скомандуй! — усмехнулся Егор — Сам скомандуй, Командёр… Ты поглядь — они уж и так пластами лежат. Вот-вот пупки поразвяжутся… А хоть бы и ослабили… Говорю, не в ефтом дело. — И он скомандовал: — А ну, мужики, ослабь!
— Ку-ды?! — шарахнулась толпа. — Сдурел!
— Ти-ха! — опять рявкнул Егор. — Не бойсь, мужики! Ослабляй!
Мужики боязливо оторвали задницы от земли.
Веревки провисли.
И — о чудо! — колокол не упал.
Это был какой-то неизъяснимый фокус.
Толпа обессиленно сомлела.
— Ягорушка! — жалобно пискнула из гущи ее какая-то старушка. — Чаво ж теперь-то?!
— А вот чаво! — Егор грозно распрямился. — А вот Чаво! — И он торжественно, напевно-раздельно как-то выкрикнул:
— Пап-рашу господ снохачей вый-тить из народу!
По толпе прокатился ропот сложной гаммы. Она колыхнулась, как тронутая внезапным ветром трава, зашелестела приглушенно и разноголосо.
Никто, однако, не покинул ее.
— Ишо раз говорю: господа снохачи, уйдитя отселя добром! Колокол дальше не пойдеть! Вот вам крест! — Егор широко, размашисто перекрестился.
И — потянулись… Бородачи. Кряжи. Отцы семейств. В самом мужицком соку здоровяки… Гуськом. Один за другим. Надвинув шапки на глаза. Конфузливо сутулясь… Четырнадцать штук.
Толпа взорвалась.
Парни гоготали. Улюлюкали им в спину.
Старухи злобно плевались: «Кобели!.. Срамцы!»
Молодайки хихикали, прикрывая рты платками.
Егор переждал сумятицу. Еще потянул паузу. И спросил ровным, будничным голосом, удивленно даже как бы:
— Черепузов? Пантелеймон Кузьмич?.. А тебя рази не касаемо?
— Тьфу! — яростно плюнул лавочник, стоявший в переднем ряду. И шапкой оземь ударил. И так, не подняв её, пошагал вой.
— Бес! — болезненно крикнул, приостановившись. — Истинно, бес! Чума!.. Сам гореть будешь! Сковородки блудливым своим языком лизать!
Егор Пузырев спокойно перенес его ругань. Даже головой не ворохнул. Чуть склонился вниз и отдал распоряжение:
— Ну, робята, с богом! Нава-лись! Мужики-тянульщики опять дружно откинулись назад — и колокол послушно двинулся вверх.
— Ну, вот и все, — сказал Пуськину его просветитель. — Кончилось представление. Сейчас подвесят — и гулянье пойдет. Ежели любопытствуете — оставайтесь, сударь. Только, мой вам совет: поостерегитесь. Народ у нас тут крутой бывает. Бесконвойный. Да-с… А я, с вашего позволения, откланяюсь.
После полудня
После полудня Иннокентий Васильевич оказался возле барской усадьбы.
— Барина бы проздравить надо! — пришло кому-то в голову — и небольшая толпа мужиков во главе со старостой двинулась по обсаженной молодыми кленами аллее к усадьбе.
Пошел и Пуськин.
Когда мужики приблизились к воротцам, то обнаружили, что опоздали с поздравлениями-то, и нерешительно затоптались. Там, во дворе, уже стояли двое «поздравителей» — утрешние знакомцы (или как их назвать) Иннокентия Васильевича: Родион с Васькой. Барин — важный и сытый, с разделенной надвое русой бородой, в пенсне — выслушивал их поздравления с крыльца террасы.
У мужиков в руках было для чего-то по хорошему осиновому колу. Родион опирался на свой животом — и потому стоял неколебимо, твердо, тверже однако даже, чем сидел утром па своем крылечке. Васькин кол лежал у него на плече, а сам он монотонно раскачивался — кругами.
— Барин. Ваше высокобродие! — кричал Родион высоким, не личащим ему голосом. — Защити от сына! Разоряет, подлец! Отдела требует! А рази ж это отдел? Грабеж, истинный грабеж… Рассуди, барин. Спаси от ирода!
Тут он, подпрыгнув, хрястнул Ваську колом по лохматой башке.
Васька боднул воздух, на момент прекратил вращение и сплеча огрел папашу. Да так крепко, что палка даже отскочила от лысины Родиона, как от тугого надутого футбольного мяча.
Эта деталь — отскочившая от лысины палка — смутно напомнила Пуськину что-то знакомое. Вроде он когда-то видел уже подобную сцену. Где? В кино? Или, может быть, читал?.. Вот так же стояли мужики, лупили друг дружку палками… Что-то еще там было… кто-то был… Ах, да! — барское семейство. Чай пили на террасе.
Здесь же барин был один. Но тоже, как видно, внезапно оторванный от чаепития. Или — от обеда. Во всяком случае, в руке у него была белоснежная накрахмаленная салфетка, и он этой салфеткой еще промокал усы.