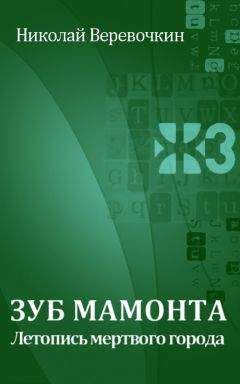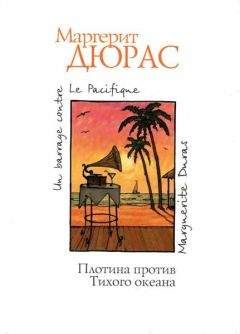Николай Веревочкин
Зуб мамонта
Летопись мертвого города
История последнего жителя мертвого города — осколки разбитого зеркала. Надо ли было склеивать их? Загляни в это зеркало — и в мутном, растрескавшемся стекле увидишь вымирающее существо, которое видит мир таким, какой он есть. Кому нужны воскресшие мамонты? Зачем тревожить себя звоном золотого колокола затопленной церкви? Но в мертвом городе встретились два обреченных человека и, спасая друг друга, каждый спас себя. Потому что спасется только спасающий. Выжить и спастись — не одно и то же, когда речь идет о душе. Спасающему трудно истребить в себе человека. Хотя время к этому располагает, соблазн велик, и многие преуспели.
Но история может приобрести совершенно иной смысл.
Смысл, который заключен не в книге, а в самом читателе.
Что же касается главного героя, это не плотина. Это трещина в плотине.
По ночному городу брел косматый мамонт с золотыми бивнями.
Исчезающая в набухшем тяжелой влагой небе тусклая перспектива улицы за спиной зверя слегка деформировалась. Перед собой он гнал вспять невидимую, но разрушительную волну времени.
Асфальт, деревья, крыши белы от снега, а дома темны и печальны. Ни человека, ни машины, ни бродячей собаки, ни звука, ни сквознячка, ни дрогнувшей тени. Только скрип снега под ногами исполина, шелест смерзшейся шерсти и пар от шумного дыхания. Ненужные в безлюдье огни светофоров жужжат на пустых перекрестках, ритмично перещелкиваясь. Окрашивают снег на деревьях зеленым, желтым, красным.
От мамонта сильно пахло псиной. Каждый его шаг сотрясал город, но ни в одном из черных проемов окон не колыхнулась занавеска. На белом первоснежье за зверем тянулся черный, влажный, слегка парящий пунктир следов. Каждый — размером с крышку канализационного люка. Если пойти по этим следам вспять, они привели бы на север, за две тысячи километров от города, к степной реке Бурле. Зверь шел долго и очень устал.
Мамонт остановился в центре Старой площади у здания с колоннами. Вздохнул и, ломая лапы голубых елей, свернул в сквер напротив. Он потерся о старый постамент с новой скульптурой, оставляя на шершавом камне, на бронзовой табличке клочья шерсти, и обильно изверг парную влагу. Задрал хобот в черноту неба. Затрубил. От густого, вибрирующего, переполненного тоской звука с деревьев во всем сквере осыпался снег. Долго косматый вслушивался в тишину. Но ни тявканья беспризорного зверья, ни птичьего переполоха, ни одного живого звука не донеслось в ответ из темноты. И мамонт припорошенной копной шуршащего сена побрел вверх по пустым улицам к невидимым горам.
На границе города и яблоневых садов тускло засветилось окно в высотном здании. Дом сливался с чернотой ночи, и окно, казалось, было врезано в небо.
Человек смотрел вниз, на рыжего исполина, бегущего по белому снегу. Усиливающаяся дрожь собственного тела и подоконника, тонкий звон стекла регистрировали неминуемое приближение вымершего зверя, час неотвратимой мести. Человек не боялся умереть, но он знал, что сейчас произойдет нечто намного ужаснее физической смерти, и тоска предчувствия холодным потом выступала на лбу. Исполин приближался, трубя с тоскливой яростью. Вековые карагачи трещали под его напором и падали со стоном. Мамонт встал на задние ноги и, упершись передними в стену, вытянул хобот. Волосатый, гибкий шланг изверг смрадное дыхание мертвечины, покрывшее окно морозным туманом. Он был в нескольких сантиметрах от хрупкого стекла.
И случилось то, чего не ожидал человек.
Мамонт уменьшался. И вместе с ним уменьшались изломанные им деревья, город, горы, планета. Все, кроме маленькой однокомнатной квартиры и человека, смотрящего из окна.
Мамонт стал меньше муравья. Темный город сжался до размера муравейника, но медленно продолжал уменьшаться до полного исчезновения. Земля стала круглым, гладким глобусом и все сжималась, сжималась, сжималась, пока не растворилась в черноте. Исчез весь привычный мир с его знакомыми существами, звуками, цветами, запахами, вселенскими огнями. Его поглотила тоскливая неизвестность чужого, темного пространства. Человек знал, что мамонт, город, планета, вселенная существуют в своей невыразимой, продолжающей сжиматься малости, но уже не для него…
Руслан проснулся от непереносимой муки клаустрофобии, когда сама Вселенная воспринимается как замкнутое пространство. Комната была погружена в великую немоту, знакомую аквалангистам и подводникам. Тишина нарушалась лишь невнятными, вкрадчивыми звуками, проникающими извне сквозь стены и стекла. Медленно рассеивались запахи сна. Серый свет окна и сварливые голоса ворон излучали настроение осеннего кладбищенского одиночества.
Привычная предутренняя тоска возвращения из мертвого города, где тихие покойники каждую ночь строят небоскреб из самана. Из коровьего навоза и соломы. Здание вылеплено до первого ветра, до первого дождя на пустынном, обрывистом берегу Степного моря. Птицы боятся гнездиться в нем. Но по какой-то причине Руслан вынужден жить на верхнем этаже. Башня все время достраивается. И каждый раз Руслан переселяется все выше и выше.
На крыше саманной высотки — церквушка. В звоннице раскачивается тяжелый золотой колокол. С каждым ударом гул наполняет Вселенную и обрывается в пропасть сердце в обреченном ожидании неминуемого мига, когда под тяжестью очередного этажа, очередного звона многоэтажная мазанка непоправимо накренится.
Дом построен на костях вымершего животного.
Комната содрогается и покачивается. Удар сердца может нарушить равновесие и обрушить глиняное строение. Руслан стоит в дрожащем от ветра и колокольного гула небоскребе из самана и ждет, когда землю сотрясет воскресший мамонт.
Каждое утро просыпаешься в сгоревшем и заново отстроенном доме: все то же самое, но ничего прежнего. Все неприятно чужое. Потертая и слегка обгоревшая гитара с корпусом, окантованным для прочности жестью. Горный велосипед с засохшей грязью на ободах. На рога его натянуты перчатки, отчего он выглядит существом неряшливым, но добродушным, с раскрытыми навстречу хозяину объятиями. На стене, рядом с костюмом в целлофановом мешке, висит плотно набитый рюкзак с навешанными кошками, ледорубом, веревками и палаткой. На медицинском атласе — исцарапанные, избитые о камни альпинистские ботинки. У глухой стены — стол, прочный, как верстак. К нему вместо кресла примыкает станок-тренажер. Покойником в черном мешке стоят зачехленные лыжи, вынужденные прозябать в пыльном углу без ослепительного света высоты.
Руслан закрыл глаза и долго лежал, не поднимая головы от туго свернутого спальника, служившего ему подушкой. Кровать из однокомнатной квартиры, пропитанной суровым аскетизмом казармы, была изгнана как предмет роскоши. Хозяин обходился альпинистским ковриком — карематом. В окно, занавешенное рыбацкими сетями, серой мглой струились ночные подозрения об исчезнувшем мире.
Три часа до работы. Руслан включил настольную лампу, стоящую на полу. В трехрожковой люстре год назад перегорела последняя лампочка, и она давно ограничивалась ролью сейсмического прибора. Раскрыл медицинскую книгу со страшным в своей прямолинейности названием. Попытался углубиться в чтение. Но лишь скользил по поверхности строк, параллельно размышляя о мамонте, доставшемся по наследству и преследующем его по ночам. О косматом мстительном звере, то уменьшающемся вплоть до исчезновения, то бесконечно увеличивающемся до размеров Вселенной. О саманном небоскребе с золотым колоколом на крыше, наполняющем покаянным гулом темные пространства родной глухомани. О невыносимой тоске, нагоняемой этими трансформациями пространства. Руслан уже много лет не испытывал скуки. Просто не оставил ей места в плотном расписании каждого дня. Но не мог избавиться от утренней тоски. Он утешал себя: помимо всего прочего, люди делятся на немногих одиночек, кто знает, что такое свобода и что такое творчество, и потому мечтают о бессмертии; удел их — частые приступы неизлечимой тоски от тщеты существования и невозможности вырваться за пределы отведенного им времени — и на остальных, кто убежден, что бессмертие — невыносимая скука простого биологического существования. Большинство людей творческих профессий за творчество принимают нечто другое. Как и свободу. Творчество — это жутковатый поиск неоткрытой истины, тоска по сотворению нового мира. А свобода — лишь необходимое условие творчества. Единственное занятие, достойное человека, — поиск бессмертия. Бессмертие нужно, чтобы там, за гранью времен, слиться с Богом. И стать творцом, а не тварью.
Но в своей мелочности мир сошел с ума.
Конечно, мир приблизительно то же самое мог сказать и о Руслане. И был бы, вероятно, прав. Защитившись скорлупой одиночества, он жил в человеческом обществе как инопланетянин, самоуверенно полагая, что построил свободный мир в одной, отдельно взятой душе.