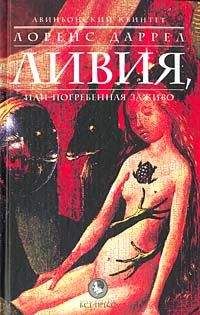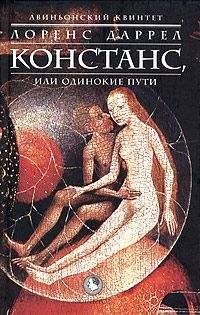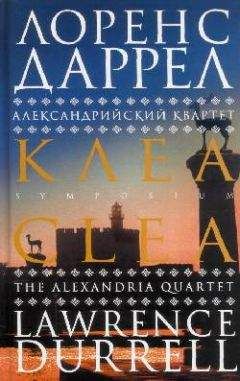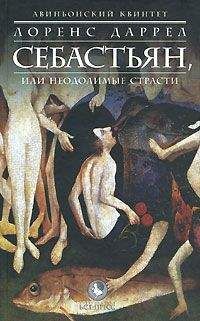Лоренс Даррел
ЛИВИЯ, или Погребенная заживо
Глава первая
Сплошное молчание
Именем Пса-Отца, Пса-Сына
и Пса-Святого Духа,[1] Аминь.
Здесь начинается второй урок.
* * *
Что если путь проходит посередине между
абсолютным произволом и абсолютной
предопределенностью?
* * *
Смешение пяти красок гибельно для глаз.
Китайская пословица
Весть о смерти Ту настигла Блэнфорда, когда он практически постоянно жил в ее доме в Сассексе, наблюдая, как первый зимний снежок падает с черного неба на еще более черные леса, с неба, в котором давным-давно погас желтый закат. Я написал «практически», потому что его версия наверняка окажется другой — ради последующих поколений и отчасти из-за стилистических пристрастий. Кресло с высокой спинкой спасало его от сквозняков, которые, несмотря на зыбкое пламя в камине от дубовых поленьев, свободно гуляли по старомодной, с высоким потолком комнате и сужающейся конусом галерее для музыкантов. Рядом на ковре лежали костыли. Ставя на пол телефон с лебединой шеей, он почувствовал, как отозвалась в нем нежданная весть: словно шум в громадной тропической раковине — гул бьющихся о белый песок волн на другом краю земли. Ту уже никогда не сможет прочесть (вот он, писательский эгоизм!) огромный новый кусок, который он добавил к своей книге — роман о другом романисте по фамилии Сатклифф, о человеке, который стал почти реальным и для него, и для Ту, таким же, каким он, Блэнфорд, был для самого себя. Вытащив из рукава носовой платок, Блэнфорд приложил его к сухим губам — сухим из-за сигары, которую он вечно мусолил во рту во время работы. Потом, пошатываясь, подошел к зеркалу, висевшему над книжным шкафом, и довольно долго рассматривал себя. Зазвонил, захлебываясь, телефон, и как всегда, когда звонят издалека, возникло ощущение, что кровь вот-вот отхлынет от сердца. Писатель не сводил взгляда с аппарата, представляя, что он — это Ту, которая смотрит на него самого. Вот, значит, что она видела, что она всегда видела! Полное совпадение взглядов, мысль к мысли — так у них всегда было. Неожиданно Блэнфорду пришло в голову, что повсюду здесь — книги покойной. С подчеркнутыми словами, с коротенькими записями. Она все еще тут!
Ему почудилось, будто из-за ее смерти и его собственный образ неожиданно стал иным, преобразился… умерла… кошмарная новость, смириться с ней было невозможно. Господи, им еще так много надо было сказать друг другу — а остались лишь обрезанные нити, обрывки незаконченных разговоров. Отныне и поговорить-то по-настоящему не с кем. Писатель поморщился и вздохнул. Что ж, теперь придется все страстные и плодотворные диалоги вести исключительно с самим собой. Все утро он играл на старой фисгармонии, радуясь, что голова и пальцы все еще отлично ему служат. Ничего нет лучше музыки в пустом доме. Потом зазвонил телефон. И теперь он думает о Ту. Никакого, в сущности, смысла. Стоит умереть, как тебя укладывают в землю и ты попросту растворяешься в ней. На некоторое время остаются кое-какие памятки — туфли, платья, не пригодившиеся номера телефонов на листочках почтовой бумаги. Как будто человек вдруг возжаждал предельной простоты, изначальной первозданности.
С заледеневшего озера доносилось щебетание катавшихся на коньках детей. Изредка слышался визг попавшего под конек камешка. Интересно, мелькнуло в голове у Блэнфорда, а как придуманный им Сатклифф воспринял бы печальную весть? Почему бы этому персонажу не поскулить в романе под стать противному псу? Прошлой ночью, лежа в постели, Блэнфорд прочитал несколько страниц любимого римского поэта Ту, и у него появилось ощущение, что она лежит рядом. На ум пришли несколько фраз: «Ровные ритмы латинского стиха, словно эхо ее сердца. Я слышу ее тихий голос, сотворяющий слова». В комнате летали мухи, появившиеся от тепла. Эти неугомонные черные точки, сбиваясь в кучки, напоминали азбуку Брайля. Звенящие детские голоса снаружи почти не задевали сознания. Ну а что толку от книг, если они не служат пристанищем для роящихся внутри сожалений? Вдруг заболела спина — позвоночник затвердел, как флагшток. Стареющий герой войны с набитым свинцом позвоночником.
Скорее бы настал и его черед. Отныне на него можно повесить табличку «Не пригоден для транспортировки» или того проще: «Невостребованный багаж» — и бросить его в трюм или в могилу. Мысленно он издал громкий вопль, вопль одиночества, но наяву не прозвучало ни единого звука. Это был пронзительный космический вопль одинокой планеты, которая, кружась, летела в космосе. В Италии Ту нравилось ходить по дому обнаженной, и у нее не возникало чувства вины, когда она громко скандировала шестнадцатый псалом. Однажды она сказала: «Как это ни ужасно, но жизнь не принимает ничью сторону».
Итак, тот Сатклифф, которого Блэнфорд придумал для своего романа «Месье», в ранней версии застрелил свое отражение в зеркале. «Мне ничего другого не оставалось, — объяснил он Блэнфорду. — Или он, или я». Писатель Блэнфорд вдруг ощутил себя до предела сжатой версией малого эпоса. Заживо погребенным! Костыли натирали ему подмышки. Он стонал и чертыхался, волоча себя туда-сюда по комнате.
* * *
Искусство почти не дает утешения. У Блэнфорда в душе постоянно гнездился страх, что его слишком уж личным сочинениям не достичь понимания читателя. Напыщенный и чахлый, сегодняшний продукт — скудный, как слюна или сперма, вот оно, следствие слишком рьяного приучения к горшку, которым когда-то мучила его мать-чистюля. В итоге — проза только о самом себе и такие же стихи, типичные для современного, страдающего запорами художника. В обыденной жизни это самодовлеющее нежелание контактировать с окружающим миром, подчинять себя, с кем-то делиться, в конечном счете может привести к кататонии! Среди «острых» больных в клинике «Летерхед» был один кататоник[2] в сумеречном состоянии, которого можно было подвесить за воротник — на крюке для мясной туши он медленно покачивался, приняв позу эмбриона. Похожий на летучую мышь, он смотрел свои амниотические[3] сны, убаюканный колыханием воображаемой утробной жидкости. Вот все, что осталось от когда-то хорошего поэта. Всю свою осознанную жизнь он страдал творческим запором, отказывался делиться тем, что его переполняло, вот и довольствуется теперь «жизнью» в кавычках. Блэнфорд протянул руку и коснулся первого варианта своего романа «Месье». Эту рукопись он подарил Ту, и она отдала ее в переплет. Интересно, где в его воображаемой жизни, которая на самом деле и была его реальной жизнью, следует находиться Сатклиффу? Так бы хотелось поболтать с ним. В последний раз до него дошли слухи, что Сатклифф в Оксфорде и прославился работой над исследованиями своего друга, касающимися ереси тамплиеров. Последней весточкой от него была загадочная открытка: «Оксфордского преподавателя легко отличить от прочих благодаря убирающейся крайней плоти».
* * *
Блэнфорд отважился снова вернуться мыслями к Ту и вдруг почувствовал жар, как при высокой температуре. Задыхаясь, он поднялся и с трудом открыл большое окно — от потолка до пола, — впустив облако снежинок и холодный ветер. Высунув голову, он смотрел на лужайку сквозь клубы пара, сразу сгустившиеся у рта. Театральным жестом прихватив немного снега, Блэнфорд потер виски, после чего вернулся на свое место возле камина и к своим мыслям. Вот и Кейд с чайным подносом бочком скользнул в комнату и, не говоря ни слова, сервировал стол, при этом с его желтой, типично пуританской физиономии не сходило выражение страстной сосредоточенности, какое можно увидеть на лицах лишь очень глупых, но хитрых людей. И еще он был преисполнен смиренной гордости, ибо на предплечьях его был распластан новый лечебный корсет, который наконец-то прислали, подогнав по размеру, из мастерской. Блэнфорд очень надеялся, что, благодаря этому приспособлению, он когда-нибудь совсем избавится от костылей. С его губ слетело радостное восклицание, когда Кейд, бесстрастный, как мандарин, снял с него старенькую твидовую куртку (с кожаными заплатами на локтях), самую его любимую, и стал прилаживать жилет из мягкой серой резины и невидимых стальных пластин.
— Поднимайтесь, сэр, — в конце концов произнес Кейд.
И писатель, недоверчиво улыбнувшись, подчинился; да-да, теперь он может ходить по комнате, передвигаться на собственных ногах, хоть и медленно. Вот уж чудо так чудо. Однако поначалу жилет разрешалось носить не больше часа в день, чтобы тело привыкало к этому жесткому каркасу.
— Чудесно, — громко произнес Блэнфорд.
Несколько секунд Кейд внимательно следил за ним, потом, кивнув, занялся своими делами, Блэнфорд же, чувствуя себя заново родившимся, стоял, прислонившись к каминной полке и глядел на валявшиеся на полу костыли. Кейду не понять, что значило для него это новое приспособление. Слуга был похож на проныру из плебеев, каким и был на самом деле. Блэнфорд с любопытством смотрел, как он перемещается по комнате, вытряхивает пепельницы, наполняет водой блюдце на батарее, меняет воду в вазе с оранжерейными цветами.