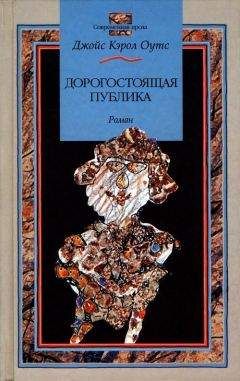Джойс Кэрол Оутс
Дорогостоящая публика
Я — дитя-убийца.
Не детоубийца, хотя такое намерение есть. Я говорю: дитя-убийца, и это значит — убийца, которым оказалось дитя, ну, или дитя, которое оказалось убийцей. Это как вам угодно. Аристотель утверждает, что человек — разумное животное. Заслышав это, вы подаетесь вперед, прикладываете к уху ладонь, силясь уловить, что тут главное: разумное животное или разумное животное. А я — кто? Дитя-убийца или дитя-убийца. Сколько лет я все никак не мог приняться за эти мемуары, но вот сижу и вижу, как возникают передо мной печатным шрифтом эти мерзкие слова, и мне теперь уже не оторваться от пишущей машинки. Что-то сродни истерическим спазмам беззвучно сотрясает меня. Вас, людей нормальных, должно быть, поразит мое признание: стольких долгих лет, стольких долгих месяцев, стольких ужасных минут стоило мне решиться вынести на бумагу эту первую мою строчку, которая читается в один миг: «Я — дитя-убийца».
Легко ли решиться на такое?
Теперь поясню вторую фразу. Насчет детоубийцы и намерения. Я пишу свои мемуары в комнате, которую снимаю, — жилище совершенно непристойном, где из окна несет помойкой и слышно, как на улице галдят дети. Нормальные, обыкновенные, такие же, как вы, как всякий, кому попадутся на глаза мои с трудом выговариваемые строки; и эти дети за окном создают шум. Нормальная публика вечно создает шум. И мое доведенное до отчаяния, испорченное, подернутое паутиной, расплывшееся от жира презренное сознание пронзает мысль: а не покончить ли с этим шумом, как я уже однажды покончил кое с кем. А-а-а, вас уже трясет и корежит от омерзения! И вы уже порываетесь заглянуть в конец книги, нет ли в последней главе эпизода, когда ко мне в тюрьму приходит священник, и я либо стоически отвергаю его призыв, либо со всей решительностью припадаю к его коленям. Я, разумеется, угадал! Потому спешу уведомить вас, что подобным примитивным финалом мои воспоминания не увенчаются; моя судьба — не роман, в ней не так, как в романе, все пригнано и сглажено. Мои воспоминания не имеют никакой четкой последовательности. Они не имеют конца, они просто сочатся себе капля за каплей. Как сама жизнь. Мои воспоминания — не исповедь, они вовсе не измышление ради денег. Просто это… Я и сам не знаю, как это назвать. Пока не допишу все до конца, сам не разберусь в том, что было.
Посмотрите, как дрожат мои руки! Я болен. Да, я болен, я вешу двести пятьдесят фунтов, и стоит мне признаться, сколько мне лет, как вы негодующе оттолкнете книгу. Сколько мне лет? Не остановился ли я в своем развитии в тот день, когда «это» случилось, — прошу отметить нарочитую нейтральность этой фразы, будто вовсе не я инициатор всего случившегося, — а может, с тех пор я окостенел и поверх моей скорлупы принялись отлагаться один за другим жировые слои? Мне так тяжело писать, что приходится то и дело прерываться, утирать лоб большим носовым платком. Я весь в поту. Еще этот галдеж детворы за окном! Эти дети прямо-таки неистребимое племя. Жизнь идет, и шума в ней все больше и больше, в то время как я становлюсь все тише и тише, и вся эта нормальная, здоровая, шумная публика наседает на меня со всех сторон — оскалами смеющихся ртов, зазывно выпирающими мускулами. Тут, наконец, моя лоснящаяся жиром брюшная прослойка не выдерживает, лопается; и в этот самый момент кто-то из соседей переключит радио с «Обзора погоды» Билла Шарпа на «Веселую Первую десятку» Гая Принса.
Воспоминания, как нож, пронзают мою тучную плоть и плоть всякого, кто возникнет на их пути.
Лишь одного хотелось бы мне, читатели мои, — уменьшить неприязнь между автором и читателем. Да-да, неприязнь есть! Вы считаете, что я пытаюсь вам что-то навязать, но это не так. Это не так! Я честен и своенравен, и в итоге вы получите правдивый рассказ; только потерпите, не все сразу, ведь мне надо постараться ничего не упустить. Я понимаю, что рассказ мой вял и расплывчат, что грешит избытком пустых слов, — постараюсь преодолеть эти недостатки. А вам надоело ждать, — ведь в самом деле, начало у меня получается какое-то ненормальное (да не иронизирую я ничуть, ироничность в людях мне претит), и вам хочется поскорей узнать, просто так, из спортивного интереса, — не душевнобольной ли я, пишущий из какого-нибудь приюта, не тихий ли помешанный, ни кающийся ли грешник (эдакий безъязыкий аскет), не ожидают ли вас на страницах этой книги целые моря крови и многочисленные любовные стычки и не ожидает ли меня в конце суровая и справедливая кара за такое разнузданное поведение. Всякая кара за очевидную разнузданность обычно благосклонно воспринимается читателем; ему так легче жить. Но то, что вы прочтете, не вымысел. Все так и было. Беда в том, что я сам не ведаю, что сейчас творю. Я пережил происшествие, но так и не понял, что это было. Я даже не знаю, как «это» назвать. Да, у меня есть что порассказать, и никто, кроме меня, этого рассказать не сможет, но то, что я расскажу именно сейчас, не через год, это — одна история, а если бы я смог заставить свой жирный неповоротливый зад усесться за работу еще год назад, тогда бы история вышла совсем другая. А может, просто я сам себе безотчетно лгу? А может, даже если говорю правду, то облекаю ее, сам того не осознавая, в некую таинственную символическую форму, так что лишь горстке литературоведов-психоаналитиков (а их всего наберется тысячи три, не более) станет доступен истинный смысл моего «это».
Да, разумеется, неприязнь есть, и она возникла оттого, что я не в силах начать свою историю простым изложением: «Однажды январским утром желтый „кадиллак“ подрулил к тротуару». Как не могу начать ее и так: «Он был единственным ребенком в семье». К слову сказать, оба этих утверждения не лишены смысла, но только говорить о себе в третьем лице я не умею. Не могу я начать свой рассказ и так: «Элвуд Эверетт и Наташа Романова встретились и поженились, когда ему было двадцать два, а ей девятнадцать». (Это мои родители! Не сразу поднимется рука отстучать их имена на машинке.)
И я не могу начать свой рассказ сочной патетической фразой: «Внезапно дверь стенного шкафа открылась, и я увидел его, голого, прямо перед собой. Он глядел на меня, а я на него». (Все это еще будет, но только потом; пока я вспоминать об этом не хочу.)
Все перечисленные способы хороши, я могу предложить их, если угодно, всякому начинающему писателю; но мне они не подходят, потому что… Сам не знаю почему. Должно быть потому, что история, которую я должен рассказать, — это моя жизнь, она повторяет мою жизнь, а у жизни нет начала. Уж если и надо как-то обозначить начало моей жизни, лучше начать с прямого и честного итога: я — дитя-убийца.
Читатели мои, успокойтесь, вам нет нужды покусывать ногти: меня-таки постигла кара. Воистину, меня постигла кара. И мои мучения есть доказательство тому, что Бог существует, — вот же вам награда, радуйтесь! Читая о моих страданиях, вы облегчите свою душу. Вам хочется знать, когда и где совершено мной мое преступление. И каков на вид этот толстобрюхий выродок, исходящий потом над своей рукописью, и сколько, черт подери, ему все-таки лет, и кого он убил, и почему… и вообще, что все это значит?
Давайте-ка взглянем в прошлое и посмотрим, что предшествовало моему поступку. Во втором столетии нашей эры у Хардинга тема «дитя-убийца» излагается дважды как-то косвенно и до странности уклончиво: содеявший, как видно, нечто чудовищное восьмилетний мальчишка упоминается, безымянная и пропащая душа, лишь мимоходом. Какая досада!
Кроме того, существует монография историка Рена о ницшеанском «вечном круговороте», где автор уличает (и как будто не без оснований) этот досточтимый принцип в несостоятельности; однако далее, по прихоти, достойной восхищения, пускается в рассуждения насчет того, как повторяются из века в век дикие преступления того самого Питера Далли, каковой в весьма юном возрасте зарезал пятерых своих братьев и сестер, включая грудного младенца, да еще, чтоб не мешал, домашнего пса колли. Мотив преступления, разумеется, неизвестен. Описывают наши преступления взрослые, а они вечно отказывают нам, детям, в возможности иметь какой-либо мотив. (Говорю «нам», хотя сам я уже не ребенок. А ведь душа по-прежнему как у ребенка.)
И еще напомню широко известный, несколько вульгарный случай, описанный Флобером в его письме Луизе Коле, причем с кровожадностью, совершенно не свойственной всей его остальной прямо-таки нарочито благопристойной переписке, — про то, как один, по-прежнему безымянный, крестьянский сынок пихнул в горящий очаг собственного деда, да еще помог себе метлой, чтобы бедняга не смог оттуда выбраться. Внимание Флобера было заострено на бессмысленности и дикости этого жестокого поступка. Но, спрашиваю я, так ли уж он был лишен смысла? Да, это варварство, причем от подобного зверства меня буквально выворачивает наизнанку, однако… бессмысленное ли?