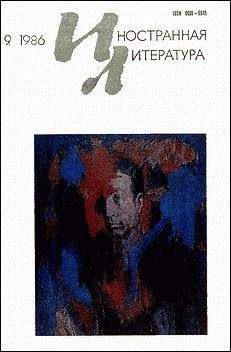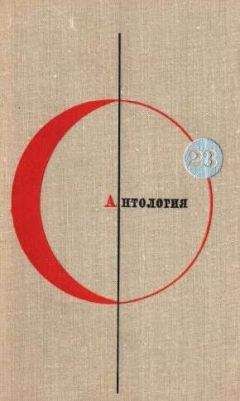Белым по красному — «Да здравствует великая Китайская Народная Республика!», восклицательный знак тесно прижался к иероглифам, а рядом — ложки, вилки, ножи и прочая столовая утварь марки «Треугольник», тут же — рояли «Море звезд», чемоданы «Великая стена», свитера «Белоснежный лотос», карандаши «Золотая рыбка»... Нежно и почтительно ласкает их свет фонарей, и они сияют горделивым глянцем. Чахлый, бесприютный тополек полон достоинства, приятельски шушукаются два растрепанных кипариса, большой и маленький, накрывая точеными тенями зеленую весеннюю травку, поникшую под западным ветром. А между притихшим газоном и шикарным рекламным стендом на пронизывающем зимнем ветру стоит она — Фань Сусу. В теплом оранжевом жакете, серых шерстяных брючках со стрелками, в черных туфельках на низком каблуке. Вокруг шеи, точно пушок на груди у ласточки, белоснежный шарф, оттеняющий глаза и волосы, черные, как ночь.
— Давай встретимся там, у этих выскочек! — так сказала она Цзяюаню по телефону. «Выскочками» Фань Сусу называла рекламы — новых идолов, возникших повсюду словно из-под земли, — и смотрела на них с легкой завистью.
— Ну, гляди, гляди, — шутил Цзяюань. — Может, вернешься домой — а там рояль?
— А как же! Помнишь, все твердили великую цитату: «Если ты не съешь, так тебя съедят»? И смотри, сколько людей стали волками.
Прошло двадцать минут, а Цзяюаня все нет. Вечно он опаздывает. Вот дурашка, опять, что ли, в какую-нибудь историю вляпался? Как-то, еще в семьдесят пятом, катит зимним утром в библиотеку и у Саньванского кладбища видит — лежит на обочине дряхлая, плешивая старуха, стонет. Кто-то сбил и дал деру. Ну, он поднял бабку, узнал, где живет, проводил домой, бросив велосипед у дороги. А кончилось тем, что бабкина родня да соседи самого парня и обвинили. На все расспросы подслеповатая старуха упрямо твердила, что сшиб ее он. Старость ли попутала? Или подлая привычка видеть в каждом врага? И объяснить — он-де лишь помочь хотел — не дали, какая-то тетка завизжала: «Ишь какой, из лэйфэнов[1], что ли?» Галдеж, гогот, хоть плачь. В то время как раз в ходу была теория, гласящая, что человек-де по природе своей порочен.
Никогда он не приходит вовремя, вечно чем-то занят. Очки не успевает протереть. А Сусу до знакомства с ним не обременяла себя заботами. Бывало, пуговица на куртке болтается на ниточке, а она и не подумает пришить. Городу же, ну, не считая бабушки, на нее наплевать. Выгнал ее Город, когда было ей всего шестнадцать. Впрочем, не то чтобы «выгнал». Гремели салюты, и фанфары призывали в целинные края. И были еще красные знамена, красные книжечки, красные повязки, красные сердца — море красного. Строился Алый Мир, в котором девятьсот миллионов сердец сольются в одно. Всех, от восьми до восьмидесяти, — в один загон, всем декламировать великие цитаты, всем: «Налево коли!», «Направо коли!», «Бей! Бей! Бей!». Об этом мире мечталось сильней, чем когда-то в детстве — о большом воздушном змее с колокольцами. Но каков он из себя, этот Алый Мир, Сусу так и не увидела, зато насмотрелась на мир зеленый: пастбища да посевы. И приветствовала этот мир. А он взял да и обернулся желтым: голая осень, грязь, жухлые листья. Ей захотелось домой. А потом, когда ребята один за другим стали возвращаться в Город, добиваясь этого больше неправдами, чем правдами, мир стал черным. Он оставил ей на память авитаминоз и слабое зрение.
Свою грезу об Алом Мире она похоронила в этой череде зеленых, желтых и черных миров. И пропал аппетит, испортился желудок, осунулось лицо. Не только красная — множество разноцветных грез было утрачено, отброшено, изгнано истошным ревом, а то и просто молча отнято у нее. Грезы белые: военный моряк в кителе, гребень волны, профессор у операционного стола. Белоснежка. Снежинки — сплошь шестигранники, а двух одинаковых нет! Или природа тоже — художник? Грезы голубые: небо, дно океана, свет звезды, сталь клинка, чемпионка по фехтованию, прыжок с парашютом, химическая лаборатория, реторты да спиртовки. И оранжевая греза — любовь... Где же Он? Высокий, статный, умный, с простодушной улыбкой на добром лице... В храме Тяньтан, где стены на любой звук откликаются многократным эхом, она взывала — я здесь!
Папа с мамой обивали пороги, жали на все пружины, чтобы вернуть ее в Город. Даже отец в конце концов понял, что иного выхода нет. И вот крепость пала, Сусу вернулась в Город, некогда одаривший ее столькими грезами. Кончился чуждый и нелепый сон, и она постаралась забыть жизнь, в которой звалась «железной пастушкой». Слишком разительным был поворот.
Она вернулась, сильно увянув душой и немного окрепнув телом. Стала впитывать новые запахи. Копоть, чеснок, золотистый жареный лук. Пьяная икота, пар над котлами, тонкие, как бумага, ломтики бараньей грудинки. Сусу работала официанткой в мусульманской столовой, хоть и не была магометанкой. Неужели все это — цветы председателю Мао, приветствия, отличная, на сто баллов, учеба, шествия хунвэйбинов, слезы восторга, свист ремней, нескончаемые торжественные декламации «высочайших указаний», парадные «чрезвычайные сообщения», а потом грузовики, теплушки, скотный двор, морда бригадира... — неужели все это было лишь для того, чтобы сегодня разносить тарелки с жареными клецками? Как-то попалась ей на глаза старая фотография — она в первом классе. Шел пятьдесят девятый. Республике десять лет, ей семь, в косичках — два больших порхающих банта. Вместе с вожатой она взлетела на трибуну Тяньаньмэнь и вручила Председателю букет. А Председатель пожал ей руку. Это было первое в жизни малышки рукопожатие. Рука у председателя Мао — большая, полная, теплая, сильная. Кажется, он что-то сказал ей. Уже потом, дома, из памяти выплыло слово «дитя». За что выпало ей такое счастье? Счастье без края — ведь она «дитя» председателя Мао!
Но прошло время, и она взглянула на старую фотографию иными глазами. Да было ли все это? Как она изменилась! А когда в семьдесят пятом Сусу вернулась в Город, она не узнала председателя Мао. Бывало, стоит прямо, движения исполнены такой силы. А теперь в кинохронике с трудом переставляет ноги и долго не смыкает отвисшую челюсть. Смысл его указаний стало трудно постичь, но газеты да радио продолжают сотрясать ими мир. У нее защемило в груди, захотелось взглянуть, какой же он на самом деле, сварить ему целебный суп из корешков. Когда болела бабушка, Сусу варила ей сладковатый, обжигающий, ароматный суп с белыми, гладкими, тонкими ломтиками. Старикам он возвращает силы. Нет, она не подумает изливать председателю Мао свои беды и обиды, не стоит тревожить старого человека. Если даже и навернется на глаза слезинка, она не позволит Председателю увидеть ее.
Увы, теперь это невозможно. Счастье отвернулось от нее. Осталось там, у семилетней. Зачем она вернулась в город? Ради мамы? Смешно. Ради бабушки? Нет, конечно. Все, твердят газеты, ради председателя Мао, а я даже посмотреть на него не могу. Вот тогда и перестала Сусу видеть сны и принялась ночами метаться, бормотать что-то, тяжко вздыхать, скрежетать зубами. «Проснись же, Сусу!» — тормошила мать. Она просыпалась, растерянно пыталась вспомнить, снилось ли ей что-нибудь, но от ночи оставались лишь холодный пот да болезненная ломота в теле.
А в тот день она стояла у обочины и смотрела, как этого дурашку Цзяюаня оговаривает старуха, которой он помог, смотрела, как наскакивают на него со всех сторон. Цзяюань был невысок, неказист, с простодушной улыбкой, которая отчего-то казалась ей давно знакомой. Потом пришел постовой. Мудрый, как царь Соломон.
— Найди двух свидетелей, — сказал он, — которые подтвердят, что это не ты сбил старушку. А то будем считать, что ты.
Может, он еще захочет доказательств, что ты не связан с советской разведкой? А не то — к стенке. Так подумала Сусу, вслух, разумеется, не проронив ни звука. Она ни при чем. Просто остановилась взглянуть, что за шум. Таких любопытных было навалом, денег за это не берут, а все-таки развлечение, не то что на сцене или экране. Там сплошь надоевшие «небеса» — то «штурмуем небосклон», то «штурмуем девятое небо», если не «одолеваем небеса», так «штурмуем облака».
Знакомая простодушная улыбка погасла, страдальчески расширились глаза:
— Зачем же вы так? Я же хотел как лучше!
У Сусу тошнота поднялась к горлу, закололо сердце. Пошатываясь, она пошла прочь. Только бы этот Соломон не остановил ее.
А вечером простачок объявился у них в столовой отведать жареных клецок. И опять улыбается. Попросил всего два ляна[2].
— И вам хватит? — вырвалось у Сусу, хотя обычно она с посетителями не разговаривала.
— Ну, для начала, — грустно сказал простачок. И согнутым пальцем стал поправлять очки, хотя те и не думали соскальзывать с переносицы.
«Ага, не хватает денег или карточек», — сообразила Сусу, а потом брякнула: