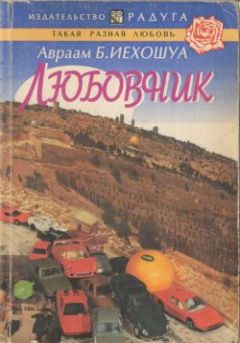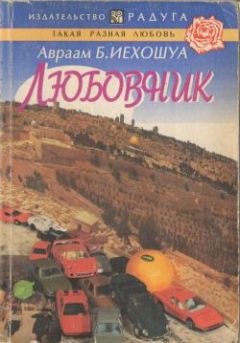Авраам Б. Иехошуа
Нескончаемое безмолвие поэта
Вчера он снова явился страшно поздно и, зайдя в дом, не соблаговолил вести себя чуточку тише. Точно мой сон — дело пустяковое. Долго отдавалась эхом его тяжелая поступь в пустой квартире, в коридоре горели все лампы, а он все рылся и рылся в бумагах. Наконец, угомонился. Меня снова потянуло в сон. А тут еще дождь. Вот уже три недели небеса безжалостно поливают нас, потоки воды стачивают стекла.
Где он шляется по ночам? Я знаю. Однажды мне удалось выследить его. Но в эту же секунду мой старый приятель, закоренелый прозаик, появился из-за угла и схватил меня за пуговицу. Он тем временем улизнул.
Из-за дождей весь приморский берег превратился в сплошное болото, покрытое мокрым песком. Тель-Авив в сезон дождей — без водостоков, без просветов — весь в озерах. И море вдали, в тумане, грязное, бурлящее, будто и оно откатилось от гигантского города, сделалось плоским фоном.
Еще нет пяти, а окна уже сереют. Что же было? Он явился ко мне во сне, я видел его отчетливо, у самой кромки прибоя; за пазухой он прятал каких-то темных птиц, прижимал их к себе. Меня поразила его улыбка. Он стоял передо мной, глядел мне прямо в глаза, слегка улыбаясь.
Из его комнаты раздается тихое похрапывание. Я знаю, мне уже не удастся уснуть. Не сегодня завтра снова отплывает корабль, и, похоже, наконец-то окажусь на нем. Мои муки, в конце концов, кончатся. В этом-то я уверен. Мне только нужно вести себя достойно до последней минуты, минуты прощания. Это вопрос лишь нескольких десятков часов.
Хот я не вижу его сейчас, я знаю: он спит без задних ног, рука на сердце, глаза закрыты, рот разинут, дыхание отчетливое.
Но прежде мне следует его описать, бегло обрисовать его внешность. Я вправе сделать это, его облик, как мне кажется, успел обрести устойчивые черты, хотя ему еще не исполнилось и семнадцати. Я давно воспринимаю его как нечто неизменное, как человека, который не изменится никогда.
Что-то неуловимое, какая-то агрессивность натуры, способной все себе подчинить. Квадратный череп, грубые, расплывчатые черты туповатого лица. Юношеские прыщи, вызревшие на лбу и лопнувшие на щеках. Черненькое углубление ямочки на подбородке. Жирные волосы. Очки.
Мне прекрасно известно, и я заявляю об этом сразу: окружающие считают его придурком. Таково общее мнение, его разделяют и мои дочери. Я прочел много специальной литературы на эту тему, и клянусь вам: это не что иное, как несчастный случай. И вообще, он ни капельки на меня не похож, нас не связывает ничего, кроме тончайшей ниточки взаимного недоброжелательства. Мне он не внушает страха, повторяю: это — пограничное состояние. Он балансирует на грани. Доказательство — его глаза. Лишь мне и лишь иногда удается заглянуть ему прямо в глаза. И я говорю вам: иногда (правда, признаюсь, не часто) что-то вспыхивает в его глазах, некое темное и неистребимое животное начало.
И не только глаза.
И тем не менее…
Он мой поздний ребенок. Он родился незапланированно, по ошибке, это было такое чудо, будь оно проклято, ведь мы оба, я и его мать, стояли тогда уже на пороге старости.
Я отчетливо помню дни, предшествовавшие его рождению. Весна была мягкой, довольно затяжной, необыкновенно ласковой. И я, поэт, уже издавший пять сборников стихов, решил бросить писать. Это было шагом решительным, совершенно осознанным и бесповоротным, продиктованным полным отчаянием. Дело в том, что той весной я признался сам себе: мне пора замолчать.
Я не слышал мелодии.
Ближайшие друзь взялись мучить меня, доводить до отчаяния, нагонять на меня страх. Все отвергать. Стихи молодых поэтов совершенно запутали меня, я, как паук, барахтался в паутине строчек, пытался имитировать их стиль, чтобы быть ближе к современности, но из этих попыток ничего не вышло, разве что самое плохое из когда-либо написанного мной. Я твердо сказал себе: "Отныне я молчу…" Ну и что? А ничего, только что из-за этого молчания нарушился старый добрый порядок. Бывало, мы укладывались в постель рано, а иногда ночь напролет проводили в переполненных кафе за пустыми спорами, на сборищах престарелых художников, так пекущихся о славе на пороге смерти.
Та чудная весна тянулась, полна легких ароматов, утопающая в цветах. А я слонялся по городу, впадая то в панику, то в отчаяние, будто осужденный на казнь. Напрасно я старался напиться. Заявлял публично о своем молчании, отметал саму возможность существования поэзии, потешался над машинами, строчащими стихи, много хохотал, болтал, исповедовался. А по ночам писал письма в редакции газет по всяким пустым поводам (общественный транспорт и т. д.), и стиль мой мельчал, постепенно, но неуклонно. И вдруг неожиданная беременность. Этот позор. Мы обнаружили это в самом начале лета. Сперва мы подолгу гуляли, затем начали прятаться в доме, в конце концов стали извиняться: сначала перед дочерями, которые с ужасом глядели на престарелую мать, раздувающуюся у них на глазах, затем перед дальними родственниками, которые приходили поглядеть на новорожденное существо.
(Роды пришлись на середину зимы, на пасмурный, промозглый день. Газон перед нашим домом был покрыт инеем.)
Теперь мы были заточены в доме вместе с младенцем. (Дочки ради него палец о палец не ударили, они все время старались куда-нибудь убежать.) Так хотелось сказать друг другу: какое это чудо — рождение! Но не хватало энтузиазма, решительно не хватало. Опять невыносимое ночное бдение, меж колыханием теней деревьев на стенах, меж тяжелых мокрых пеленок, развешанных на веревке, протянутой через всю квартиру. Все вызывало тоску. Мы попались, как куропатки.
Потомок подрастал. Медленно, незаметно, с трудом. Он отставал в физическом развитии, походил на дистрофика. Теперь, заглядывая в прошлое, я вижу его этаким птенцом серой птицы, потихоньку оперившимся в своей крохотной кроватке рядом с моей.
Лишь на третьем году его жизни у нас зародилось подозрение. Заподозрил не я, а дочери. Его движения были замедленными, он противно мямлил, рос увальнем, и дочери заявили: он слабоумный. Наши друзья внимательно вглядывались в его лицо, пытаясь обратить наше внимание на явные признаки того, о чем мы не осмеливались говорить вслух.
Я плохо помню этот период его жизни. Я был занят болезнями его матери. После поздних родов она быстро чахла и угасала. Нам ничего не оставалось, как наблюдать, как она отдаляется от нас, уходит все дальше в пустыню, бредет в одиночестве среди безлюдных, безжизненных холмов, исчезает в призрачном свете, уходит от нас во тьму.
Изо дня в день перемены становились все заметней.
Когда она умерла, ребенку было уже шесть лет. Увалень, не испытывающий ни к кому из нас ни малейшей привязанности, погруженный лишь в себя, при этом вовсе не из породы мечтателей, отнюдь не мечтатель. Всегда нервный, всегда беспокойный. Если я гладил его по голове, он весь дрожал.
Мне хотелось сказать с жалостью: сиротка! Но язык не поворачивался. Исчезновение матери не произвело на него никакого впечатления, хотя мы, по моему недомыслию, и потащили его на похороны. Он ни разу не спросил о ней, будто понял, что она исчезла навсегда. А через несколько месяцев после ее смерти пропали вдруг все ее фотографии, и когда мы вдруг обнаружили это, нам и в голову не пришло спросить у него. Когда мы, наконец, спросили, было уже поздно. В сумерках он повел нас к месту захоронения; в углу сада под развесистым деревом в старой яме, где гасили известь, завернутые в старую тряпку лежали обрывки фотографий.
Долго он стоял под деревом и что-то бормотал нам, сверкая своими бегающими глазками.
Несмотря на это, ничего так и не прояснилось… Но впервые у нас раскрылись глаза, и мы увидели перед собой маленькое человеческое существо.
Я не сдержался и ударил его, первый раз в жизни. Я крепко схватил его за плечо и наотмашь ударил по лицу. Потом его били дочери (зачем они били его?).
Он не понял.
И с недоуменным лицом сносил тумаки. Потом заплакал и повалился на землю. Мы подняли его и потащили в дом.
Впервые я обнаружил, что ребенок прекрасно ориентируется в доме, знает все его углы. Фотографии матери он собрал из старых альбомов, залез в пожелтевшие конверты. Даже в саду он отыскал укрытие, о котором я поняти не имел. Мы живем в этом доме уже двадцать лет, этот сад долгими бессонными ночами я обошел вдоль и поперек тысячу раз. Но никогда не видел эту старую яму дл гашения извести, серую, неприметную, с объеденными известью краями.
Были ли это первые явные симптомы? И по сей день не знаю. Ни я, ни дочери не могли найти случившемуся никакого объяснения. Мы боялись лишь скандала и позора. Деть его было некуда, и мы, по крайней мере, хотели его хоть как-то спрятать.
Поймите же, дочери были еще не замужем… В сентябре я отвел его в школу на окраине города; в первую неделю я пораньше уходил с работы, чтоб встречать его у ворот школы. Я боялся, как бы дети не стали издеваться над ним.