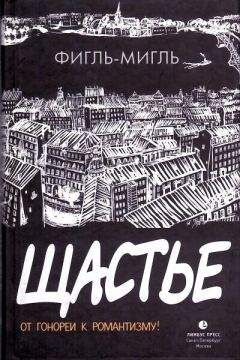1
В аптеке я купил новую зубную щётку и кокаин. Это было утром — холодным, дождливым. («Утро туманное, утро седое», — пело аптечное радио незнакомым древним голосом. Голос падал, как капли сырости, откуда-то сверху на прилавок и маленькую отрешённую женщину в сером халате, на котором неожиданно ярко блеснул значок Лиги Снайперов.) А в шестом часу, пройдя блокпост, я шёл по Литейному мосту, и погода казалась прекрасной. Город мерцал в рассеянном свете апреля, вода блестела, небо становилось все прозрачнее, воздух — чище. Чистоту и покой можно было есть большой красивой ложкой, серебряной-пресеребряной. Всё, что вырастало впереди, слева и справа — дома тихой набережной, перламутровая стрелка Васильевского острова, — словно улыбалось со сдержанной радостью, растворяя в одной сияющей чаше жемчуг воздуха, архитектуры, воды.
На уходящих в воду гранитных ступенях кто-то оставил, намереваясь вскоре вернуться, складное деревянное кресло. На кресле лежала книга. Вещи терпеливо ждали своего владельца. Я повернул направо.
На парапете, лицом к воде, свесив ноги, сидел маленький мальчик в вязаной шапке с козырьком и аккуратном бушлатике. Его придерживала дама в просторном сером пальто. Её светлые длинные волосы были распущены.
— Мама, а кто там, за рекой?
— Никого, котёнок. Волки и медведи.
Я остановился послушать.
— Разве волки и медведи не в зоопарке?
— Там такие, которые бегают сами по себе.
Ребёнок задумался.
— А кто их кормит?
— Они сами.
Мальчик недоверчиво засмеялся.
— Как же они это делают? В зоопарке им дедушка привозит еду в тележке. Как они сами будут возить и класть в миски?
Мама тоже задумалась.
— Они едят друг друга.
— Сырыми? — спросил мальчик в ужасе.
— Не думай об этом.
— Там не волки и медведи, а такие же люди, как ты, — сказал я.
Мальчик ойкнул. Дама обернулась. У неё было уверенное, приветливое, милое лицо. Почти у всех богатых такие лица. Совсем молодая женщина посмотрела на меня укоризненно, потом — с тревогой. Она дёрнула головой, выискивая городового. Чтобы успокоить её, я снял тёмные очки. Увидев мои глаза, она смущённо закусила губу, опустила голову. Потом нерешительно сняла сына с парапета. Очень похожий на неё мальчик смотрел на меня без испуга, со спокойным любопытством приручённого зверька. Такой взгляд был у белок в Летнем саду. Взрослые кормили их фисташками, а дети — выковырянными из шоколадок орехами, и никто никогда не обижал на памяти пяти человеческих поколений.
— Пойдем, Котик, нам пора к обеду.
Он послушно дал ей руку. Его ясные глаза и ясные пуговицы отразили мою улыбку. Когда они уходили, держась за руки, их фигурки растворил неожиданный и быстрый, как молния, солнечный луч.
Первый клиент жил на Фонтанке, напротив Замка, занимая третий этаж небольшого весёленького домика. И бизнес у него был весёлый: экстремальный туризм. Его люди водили богатых шалопаев на наш берег. Это было нелегально, грозило крупными штрафами, если любителей адреналина ловил береговой патруль, и сложными переломами, если их ловила Национальная Гвардия. Их могли поймать менты, дружинники, члены профсоюзов, китайцы, анархисты, мало ли кто — любая банда или ассоциация — и потребовать выкуп. В конце концов их мог, поймав, покалечить или убить — насколько убийство вообще было возможно — кто-то из радостных, или авиаторов, или Лиги Снайперов. Кого когда-либо отпугивали подобные вещи? Никого. Чем бессмысленнее и опаснее было путешествие, тем дороже оно стоило, и мой клиент процветал даже с учетом всех штрафов и взяток. Зато его донимали привидения. По крайней мере, он был уверен, что донимают. Время от времени я пытался его разубедить, от этого он нервничал ещё сильнее и вызывал меня ещё чаще. А порою он оказывался прав, и привидения появлялись: давние жертвы среди экстремалов и персонала фирмы. В такие дни он цеплялся за меня до синяков и так потел, что его запах прилипал к белью, мебели, стенам комнаты, моей одежде.
Он принял меня в спальне. Не понимаю, почему они все вбили себе в головы, что мне удобнее, а им приличнее разыгрывать этюд «доктор и тело в постели». Может быть, когда собственные тела, голые и придавленные одеялами, казались им такими беспомощными, моё могущество в их глазах многократно возрастало.
— Дорогой, — простонало тело, — скорее, скорее.
Я киваю, сажусь на край многоспальной кровати, беру его руку и ободряюще хмурюсь. Правильнее было бы ободряюще улыбнуться, но этот клиент не любил, когда я улыбался, он требовал серьёзного отношения, не совместимого, на его взгляд, с улыбкой. Он был уже пожилой человек — мягкий, пугливый, лишённый чувства юмора и плохо вязавшийся со своим энергичным и зловещим бизнесом. Точнее всего будет определить его словами «старый пидор». Я смотрю ему в глаза.
Зрачок медленно расплывается по радужной оболочке, гася чёрным сперва её ртутно-серый блеск, потом белки глаз, лицо, комнату, весь мир. Погружаясь в темноту, я перестаю чувствовать своё тело — от головы к ногам — и утрачиваю слух. Я вижу разрозненные предметы. Осенние листья, комок из пуха и перьев, перчатка, кожаный рыжий блокнот, термометр, упаковка аспирина впаяны в чёрное, как музейные экспонаты в бархат. Кое-где попадаются не вещи, а слова («смерть», «кофе», «жирно») и ряды цифр: короткие, как номера телефонов, длинные, как банковские расчёты. И вот я попадаю в парк, почти точную копию Михайловского сада. Он пуст; здесь чисто, гуляет ветер, ветер несёт по песку листья и пряди состриженной с газонов травы. Я иду, нагибаюсь, переворачиваю палые листья, заглядываю под кусты, иду туда, где краем глаза уловил мелькнувшую тень. Я обхожу всё, и никого не вижу. Напоследок я останавливаюсь у озерца на самом краю парка — за ним уже ничего нет, всё мутнеет, расплывается серой кашей тумана. В озерце поверх воды плавает полузастывший вязкий жир. Здесь тяжело дышать. Я сажусь на скамейку, жду. Под ближайшим кустом лежит в траве яркая детская игрушка: попугай, раскрашенный в семь весёлых цветов. Попугай очень старый (царапины, щербины, краска облупилась, одна лапа отломана, неглубокая вмятина не наполнена глазом), но вид у него живой и сварливый. «Тронь, тронь, попробуй», — говорит он на понятном нам обоим языке. Мне не встречались привидения в виде старых деревянных игрушек, но я знаю, что игрушки не беззащитны. Мне хочется посмотреть, из чего были сделаны глаза. (Второго глаза, который, возможно, цел и способен удовлетворить моё любопытство, я не вижу; придётся встать, дотронуться, перевернуть или взять в руки.) Жирные волны загустевшего воздуха разбиваются о мой первый шаг.
— Вам нужен не я, а врач, — сказал я наконец. — Что-то с печенью, а?
— А-а-а, — передразнил он недовольно. — А я так надеялся, что это они.
И он, и многие другие никогда не говорили «привидения», «призраки» или что-то в этом роде, лишь голосом позволяя себе подчеркнуть страх и отвращение, распиравшие изнутри какое-нибудь неприметное местоимение. Ещё ему очень хотелось спросить, что же я видел. Он не решался. Осторожно, как ставят гранёный стакан на стеклянную полочку, он положил руку себе на лоб. Мизинцем другой руки он смущённо, с безмолвной просьбой, немой надеждой, поскрёб мое колено.
— Парапсихология здесь бессильна, — сказал я. — Вызовите доктора, а он пропишет вам покой, диету, смену занятий, поездку в Павловск…
Он застонал и завертелся среди подушек.
— А на кого я оставлю бизнес?
— Да продайте его, — необдуманно пошутил я.
Он так и прыгнул. Он заметался по комнате, теряя и подхватывая тяжёлый тусклый халат, мигом переворошил груду флаконов на туалетном столике и, наконец, едва не влетев в зеркало, остановился перед ним, растерянно вглядываясь в жирного растерянного зеркального человека.
— Продать! Наследственный бизнес!
Это тоже было у них общее. Если твои дедушки до седьмого колена владели булочной или казино, или зубоврачебным креслом, или помойной ямой, ты тоже был обязан продавать хлеб, обирать игроков, изучать дыры в чужих зубах, контролировать вывоз мусора — как бы тебя от этого ни тошнило. Закон преемственности был неписаным, неоспоримым и безжалостным.
— И кому вы предполагаете его оставить?
— Надо жениться, надо жениться, — уныло пролепетал он, садясь в кресло спиной к зеркалу. — Погуляю ещё пару лет и женюсь.
Пара лет у него давно перевалила за пару десятилетий. У него не было ни братьев, ни сестер, ни каких-либо родственников. Он не мог надеяться, что всё как-нибудь разрулится. Он не мог свалить вопрос на компаньона, которого тоже не было. Он не мог больше оттягивать, хотя именно этим и занимался. Его совесть постоянно была обременена попытками то не думать о будущем, то думать. Наследственный бизнес делал его богатым и несчастным.