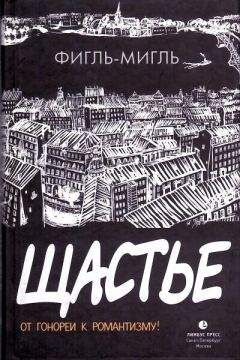В довершение всего он был пацифистом. Привидения, по замыслу, его донимали, но он запретил мне их уничтожать. Только отпугивай, знаешь ли, пояснил он мне в первый же раз, просто отпугивай. Постарайся им втолковать. Как и что я мог втолковать призраку, его не интересовало. Он никого не хотел убивать, нет-нет. У него были принципы, принципы тоже были наследственные. Наследственная квартира, наследственный парадный чайный сервиз, наследственные серебряные ложки, наследственные проблемы с печенью! Даже пристрастие к мальчишкам не было у него благоприобретенным.
Один такой миньон вошёл сейчас в комнату с круглым серебряным подносом в руках. Поднос был заставлен графинами, стаканами, наполненным сластями серебром. Мальчик, похожий на красивую девочку — а может, это была девочка, похожая на красивого мальчика, — движением головы откинул со лба густые спутанные волосы и улыбнулся. Клиент ожил. Он подскочил, сам принял поднос, отнёс его на стол, вернулся и ласково ухватил андрогина за ухо, заставляя того повернуться в профиль.
— Кукла! — восхищённо восклицал он. — Антиной! Смотри, Разноглазый, как на медалях Адриана!
Половина Города была помешана на андрогинах и медалях. Один буйнопомешанный пижон даже водил меня в Эрмитаж чем-то таким любоваться.
— Душка, пусти, — сказал Антиной. — Не можешь без конфуза.
— Ты рот-то закрой, — сказал я. — Медали не разговаривают.
Мальчишка надулся и замолчал. Его старший друг взглянул на меня быстро, смущённо, с упреком, с уважением. Грубость была дурным тоном, дурной тон был почти преступлением — иногда они в этом нуждались. Кто-то один должен быть грубым, чтобы на его фоне кто-то другой ценил свою вежливость.
— Хочешь выпить, дорогой?
— Нет, у меня ещё клиенты. Кстати, о бизнесе: вам самому никогда не хотелось там побывать?
«Там» я подчеркнул примерно той же интонацией, которой он подчёркивал «их», хотя говорили мы о разном. Но он понял и всплеснул руками.
— Боже сохрани! Я никогда не понимал, как у людей хватает безрассудства соваться к… — он запнулся, — ездить за реку. Так рисковать, подумай только! И ради чего?
— Что там вообще такое? — лениво спросил андрогин. Он залез с ногами на кровать и лениво катался по ней, сминая шёлк многочисленных тряпок уверенными движениями красивого гибкого тела. Шёлк мерцал и струился.
— Как что? — сказал я, вставая и отдергивая штору, чтобы посмотреть, как ткань и его волосы вспыхнут в луче слабого солнца. — Волки и медведи.
Владелец экстремального туризма окончательно смутился.
— Ну, ну, мальчики, — расстроенно забормотал он, — полно! — Он улыбнулся мне. — Кстати, о клиентах. Что если бы ты как-нибудь — так, совершенно между прочим — поделился с доктором своими опасениями?
Его доктор, гроза пациентов, сам меня боялся. Кого, как не врачей, привидения посещают с наибольшей охотой? Среди моих клиентов он был самым терпеливым, беспрекословным, аккуратным в оплате. Хотя нет, платили все очень аккуратно. Это тоже было наследственным принципом.
— О вашей печени?
— Ну да. Ты бы сказал, что мне действительно нужен отдых…
— Я в Павловск не поеду, — заявил андрогин. — Там скука смертная и клубы как в каменном веке. Сидят старики по углам и пускают бациллы. Я закрылся платком и отключился, а потом болел гриппом.
— С кем ты ездил в Павловск? — ревниво и беспокойно спросил мой клиент.
— Откуда тебе знать, какие в каменном веке были клубы? — спросил я.
Оба вопроса Антиной пропустил мимо красивых маленьких ушек.
— А пока я спал, — продолжал он, с задумчивой гримаской разглядывая сперва свои ногти, потом — узорчатый край покрывала, потом, положив на этот узор руку, опять ногти, — какой-то тип упал в камин. Его вытаскивали, а он хоть бы что, даже не проснулся. А я проболел две недели, лежал в постели и пил антибиотики.
— Когда же это было? — беспокойство в голосе моего клиента было теперь не ревнивым, а участливым.
— Я так и не впёр, — закончил мальчишка, зевая, — от кого заразился. Они все кашляли. Разве это справедливо, Разноглазый?
Второй клиент не был клиентом. Я мог бы назвать её клиенткой, что тоже неточно. Она была клиенткой когда-то давно, потом у нас была связь, потом она сказала, что я разбил ей сердце, ещё потом — что погубил. Теперь она решила, что умирает. Впрочем, это могло быть и правдой. В любом случае, пока она умирала, я её навещал, если мне было по дороге.
В Городе предпочитали ходить пешком, хотя здесь был трамвай (№ 3 и № 7, ходившие по неменяющемуся расписанию незапоминающимися маршрутами). Велосипед считался простительным пижонством, считаные лимузины нуворишей публика аккуратно не замечала — и как только появлялись, втиснувшись в ежегодную квоту, очередные чужаки, эти красивые тяжёлые машины тут же меняли владельцев — а тот, кто год назад глядел Тримальхионом и наглым триумфатором, покупал себе трость и таксу, безропотно капитулируя перед укладом жизни своего нового окружения — и ещё через пару лет его дети писали в гимназических сочинениях о прогулках по городу, как о чувственном, никогда не приедающемся удовольствии…
Я иду через мостик, через трамвайные пути, через Марсово поле. Вот на скамейке, спиной ко мне, сидят два господина в почти одинаковых мягких пальто; вокруг скамейки повизгивают и скачут две блестящие раскормленные таксы: хвосты выражают волнение и радость, морды — как у хлопотливого, со множеством дел человека. На одном господине котелок, другой нервно приглаживает аккуратную непокрытую голову, теребит неразличимый выбившийся клочок за ухом. Господа разговаривают.
Я остановился послушать.
— Я ему говорю: ведь мы же договаривались, — торопился нервный господин, — а он мне: покажи контракт. Я ему говорю: мы договаривались, а он: покажи, где это написано. Я говорю: ты что, об устном соглашении не знаешь? А он: подавай в суд и поищи свидетелей. Ну что с ним делать?
— А давай его разорим, — сказал господин в котелке, наклоняясь погладить собаку.
— Какие ты, Илья, дикие меры предлагаешь! Человека сперва нужно воспитывать, а потом уже, если не помогло, мстить.
— Это не месть, а бизнес.
— Я хочу сказать: мстить за то, что он воспитанию не поддается.
— Свидетели есть?
— Какие свидетели! — воскликнул нервный в совершенном отчаянии. — Я ему говорю…
Я пошёл дальше.
Картинно-хрупкая горничная провела меня в затемнённую спальню. Женщина приподнялась со своих картинных подушек. Её лицо было серо-зелёным, под цвет глаз, протянутая мне рука — чудовищно худой. Она старалась быть спокойной и вежливой. Я видел, что она рада и что ей не по себе. Я придвинул кресло поближе к кровати.
— Вам лучше?
— Да, — сказала она сердито. — Я умираю.
— Вы не умрёте. От воспаления лёгких умирают только в старых книжках.
Всё, что при полном освещении блестит, в полумраке начинает очень приятно мерцать: полированное дерево, стекло, цветы и ваза, в которой они стоят, кожаный переплёт засунутой под подушку книги, ткань и кружевные прошивки пеньюара. Мерцание наполняло комнату, как лёгкий дым. На маленьком круглом столике стояла одинокая белая чашка с каким-то густым отваром. На стене я заметил круглого паучка. Она любила пауков и запрещала убирать в своих комнатах паутину.
— Я сейчас видел по дороге мальчишку с большим букетом, и сам он был не больше букета. Подходил трамвай, а он держал в охапке тюльпаны, и они закрывали ему лицо. А потом я подумал, что он закрылся нарочно. Нянька не могла добиться, чтобы он сдвинулся с места.
— Я люблю тюльпаны.
— Когда вам разрешат выходить, их станет ещё больше.
— Никогда не разрешат.
Паучок пустился в путь, вверх и в сторону, где перед ним лежал неширокой полосой солнечный луч, пробившийся сквозь какую-то щель в шторах. Добравшись до луча, он замер, словно на берегу светлой реки.
— Почему вам так хочется умереть?
— Я не хочу жить, — пробормотала она. — Как я могу жить? — Она отвернулась. — Есть вещи похуже неразделённой любви.
— И что же это такое?
— Любить, стыдясь своего чувства! — крикнула она и порывисто села. — Любить недостойного!
Некоторые женщины, разозлившись, становятся очень красивыми. И даже теперь, сквозь болезнь, сквозь корку мгновенно проступившего на лице возраста, её воодушевлённая мрачная красота разгорелась огнём. Я смотрел на огромные сверкающие глаза, длинные ресницы. Надменные ноздри длинного носа и злой рот были опалены лихорадкой. Я вспомнил другие безупречные, рассчитанные на эффект лица, и тяжелой стеной они встали между живым лицом и моим взглядом. Тогда живое лицо погасло.
Вспышка не прошла ей даром; она закашлялась, потом зажмурилась и замерла, забившись в глубь одеял.