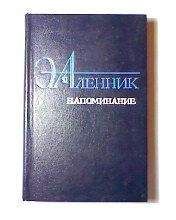Энна Михайловна Аленник
Напоминание
Памяти Евгения Витольдовича Корчица
И долго человека знаешь — и многое тебе о нем неведомо.
Ты ищешь следы, следы начала. Оказывается, их много. Стоит назвать имя — и толща лет прорывается, и давнее входит в сегодняшнее.
Идешь по следу жизни этого человека — и возникает книга. Ее нельзя назвать документальной. Вероятно, герой в ней оживет и таким и не совсем таким, как был, потому что будет оттенен разной памятью разных людей.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
СЛЕДЫ ПОСТУПКОВ
Этот благообразный, осанистый человек с первого слова поражает несоответствием образцово здорового вида — и голоса, идущего из недр глубокой старости.
— Знал ли я Алексея Платоновича Коржина молодым? А как же. Я руководил тогда горздравом, сам выписал его в Коканд. И скажу вам: невозможный это был человек. Спросите почему? По весьма многим причинам.
Первейшая — потому, что шел наперекор нашим указаниям. Известные, многоопытные врачи указания выполняли. А он, с несравнимо меньшим опытом, но уже с какой-то незаслуженной славой, делал по-своему. И еще скажу о его отношении к больным. Согласитесь, весьма странном. Удачно прооперирует и выписывает раньше положенного срока, чтобы поскорей положить новых.
Была у него такая теорийка: после как следует сделанной операции больной сам поправится, даже в канаве.
Помню, изложил он мне эту теорийку и с любезной улыбкой разъясняет: «Но в канаве — в хорошую погоду. В дождливую и холодную — лучше поправляться под крышей». Ох эта коржинская улыбочка!
Он задыхается от свежести своего негодования, от напора былых чувств. Он делает передышку и омоложенным этими чувствами голосом продолжает:
— Как нарочно, больше всего Крржин любил делать то, чего от него не требовалось. Никто ему не вменяет, и уж отнюдь не входит это в должность, а он среди ночи приходит с фонариком в больницу — проверять. Был случай идет он по коридору, видит: в закутке спит дежурная сестра. Щелк! — и луч фонаря прямо ей в лицо. Ну разве такое позволительно?.. Я хотел его уволить. Начал зондировать почву — какое там! Попробуй только… Да за него весь город на дыбы!
Он снова делает передышку, достает аккуратно сложенный носовой платок, прикладывает его ко рту, к мягким, пышным усам, проводит по окладистой каштановой бороде, затем со вздохом облегчения говорит:
— Наконец Коржин уехал — руководство, видите ли, мешало ему работать. Но слухами земля полнится. Дошел и до нас слух о его фокусах в Самарканде. Он там — ни много ни мало — насильно скрутил больного, сел верхом ему на спину и сделал операцию на затылке! За это судить надо. А ему, представьте, опять сошло. Там он и руководство, как теперь это называется, охмурил. Но меня — не удалось. Потому что знаю: из-за таких, как он, и тех, кто ими восторгается, одни неприятности и беспорядок. Кстати, слышал я, что еще до революции, перед тем как окончить медицинский факультет, Коржин был учителем в Самаркандской женской гимназии, зарабатывал у гимназисточек дешевое звание любимца. И посещал какой-то тайный кружок, считалось, что ратовал за справедливость. Но, можете не сомневаться, именно за такую справедливость, которая позволяла бы ему делать что хочет и даже ночью ослеплять сестер светом.
Он подождал, пока записывались в лежащий на столе блокнот его слова. Затем добавил:
— Вот вам, смею уверить, точная характеристика молодого Коржина, Алексея Платоновича. Позже мне с ним встречаться не пришлось. О чем, если сказать не кривя душой, я нисколько не сожалею.
Воспоминания медсестры, разбуженной фонариком Коржина
— Сколько лет прошло с той ночи?.. Сейчас сосчитаю.
Она, худенькая, узенькая, сидит на табуретке между газовой плитой и кухонным столом. Готовит обед на большую семью. У нее перекошенные плечи. Одно — сильно вперед и вверх, другое — назад и вниз. Но коротко остриженная седая голова держится почти прямо и глаза в темных глубоких морщинах полны достоинства.
Она сосчитала:
— Прошло пятьдесят два года, — и, смущенная этой цифрой, добавляет: Всего-навсего.
Точным движением, не глядя, она достает с полочки над головой пачку «Беломорканала» с коробкой спичек, быстро разминает папиросу, закуривает и глубоко затягивается — для укрепления сил.
Дверь во двор открыта. Видны зеленый куст с крупными желтоватыми розами, глиняная стена и крыша сарая. На крыше растет мочалка-люфа — она еще в кожуре и похожа на длинную, узкую тыкву. В кухню плывет солнечное тепло. Это начало ноября тысяча девятьсот семьдесят первого года в Самарканде.
Она говорит медленно, как бы идя от той воскресшей ночи к слову:
— Да, резкий луч в лицо меня испугал и оскорбил.
«Виноват, огорчен, что вынужден прервать сладкий сон, — сказал Алексей Платонович, — но я должен попросить вас освежить лицо холодной водичкой, подойти к старику Ходжаеву и выполнить назначенное мной на тот случай, если он не будет спать. А он давно не спит. В жажде видеть вас он поворачивает голову к двери, что ему после трепанации черепа — рано и потому крайне вредно. Надеюсь, вы помните, что надлежит сделать?»
Я осветила точно, не взглянув в запись. Он так ясно объяснял цель назначений, что они запоминались. Мы острее чувствовали их пользу и перестали выполнять их бездумно или думая о другом, как иногда бывало и часто бывает… — Тут она улыбнулась заразительно. Яркая улыбка уцелела вопреки годам, вопреки судьбе. — Мы освежали лицо холодной водичкой, когда хотелось спать.
Да, упреки Алексея Платоновича глубоко ранили. Не знаю… может быть, потому, что резкие замечания он делал подчеркнуто вежливо. Зато когда хвалил, сам радовался и так дружески обнадеживая смотрел.
Какими словами хвалил? Понимаю, вам хотелось бы точно. А разве можно точно запомнить, из чего состоит счастливая минута? Вот слова упрека запомнились, видите, на сколько лет… Тогда, работая с Алексеем Платоновичем в Коканде, я жила и боясь упреков, и всетаки в приподнятом настроении. Тогда каждый день был необыкновенным. Не сосчитать, сколько больных вышло при нем из больницы здоровыми после смертного приговора других врачей. Он многому нас учил. Главное — быстроте отклика. Помню, когда пришла от начальства бумажка с требованием формальностей, таких, что оттягивают немедленную помощь больному, он побледнел…
И, помню, глядя в окно, сказал: «Тэк-с брэ-ке-кекс!» Потом повернулся к нам — мы все были в сборе перед утренним обходом — и весело объявил:
«С сегодняшнего дня мы начинаем работать по букве этого выдающегося предписания. Но — в обратном порядке. Сначала будем оказывать помощь, затем — выполнять требуемые усложненные формальности».
Она погасила огонь под большой кастрюлей с тихонько кипевшим компотом и снова улыбнулась:
— Говорили, что в тот же день Алексей Платонович послал начальству горздрава просьбу срочно изыскать средства для расширения морга, так как точное выполнение предписания не может не привести к резкому увеличению летальных исходов, или попросту — к резкому увеличению числа покойников.
Она поглядела в открытую дверь и, похоже, увидела там не стену и крышу сарая, а тот давний день, того Коржина и ту далекую себя.
— Когда он уехал, в больнице потускнело. Его заместитель был неплохим хирургом. Но делалось все по стандарту, от и до. За трудное он не брался. Приговоренные к смерти умирали. Приговоренные жить калеками оставались калеками. Мы — то есть я с одной тоже совсем молодой медсестрой — написали Алексею Платоновичу и, получив его разрешение, приехали в Самарканд, чтобы с ним работать.
Она помолчала, разожгла потухшую папиросу и с дымом выдохнула:
— Да-а, если бы после моего ранения, в сорок третьем, я могла бы добраться до Коржина… — и умолкла, не договорив.
Когда записывались ее воспоминания, у пишущего возникали мысли по поводу прошлого и настоящего, молодости и старости, а потому были пропущены и, может быть, не совсем точно восстановлены некоторые слова Коржина. И если есть кто-нибудь, кто может это заметить и кого это покоробит недостоверностью, пусть знает — не ее в том вина.
— Кто вам сказал, что он был учителем в женской? Вранье это. В нашей он учил.
Это говорит сухощавый пенсионер с густыми вихрами, чем-то сильно огорченный, может быть не раз, но навсегда. В ту пору — одиннадцатилетний сын поломойки Самаркандской мужской гимназии.
— Не ошибаюсь ли? Никак нет-с. Не могу ошибиться, потому что забыть не могу, как хлопотал он, чтоб меня в ту гимназию приняли. К тому уже шло. И — не дали ему дохлопотать.
Было это в тысяча девятьсот шестом. Отмечали в Самарканде годовщину Кровавого воскресенья. Бастовали рабочие и железнодорожники. Устроили они панихиду по тем, кто мирным, праздничным шествием, с открытой душой шли к царю за милостью, а получили… Да что говорить! Известно, что получают, когда с открытой душой идут к царям.