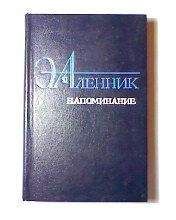В затекшие от непривычно долгой неподвижности нижние конечности несравненного мастера вонзались в это время сотни иголочек и беспощадно больно кололи.
Казавшиеся ритуальными движения несколько облегчали и ослабляли эти уколы.
Гонорара за виртуозную чистку туфелек и научную оценку множества голеностопных суставов хватило на четыре билета в вагоне третьего класса пассажирского поезда Тифлис — Петербург, каким той же ночью отбыли четыре студента-биолога Петербургского университета, высланные на Кавказ за участие в студенческих волнениях недопустимого накала.
ЭПИЗОД ВТОРОЙ
История неотвязной любви, рассказанная много лет спустя тем, кто был зазывалой с колокольчиком
Теперь это красиво седеющий маститый профессор.
Он не ссутулился и так же высок. На нем безукоризненно сшитый серый костюм и серые замшевые полуботинки.
Он садится в удобное кресло своего элегантного кабинета и, мечтательно поглядев в окно на Неву, говорит:
— Люблю побеседовать на лирические темы. Они обогащают, освежают. Их следовало бы включить в жизненный график. Но все недосуг, все некогда: лекции, сложнейшие эксперименты, международные конференции. Редко выпадет вот такой спокойный день. Сегодня он нам очень кстати. Ведь для того чтобы приблизиться к интересующему вас событию, надо перелистать назад много страниц, приподнять много пластов. А они крепко слежались. Они затвердели…
Профессор задумывается, чему-то улыбается и предлагает:
— Пожалуй, для начала, чтобы легче было пласты приподнять, я расскажу вам изящную новеллу о первой любви президента де Голля…
Нет, кажется, она нигде не опубликована. Я слышал ее из уст сына президента в доме моих парижских друзей. В устах обаятельного сына она прозвучала так:
«Мой будущий отец страстно — русские сказали бы: глубоко — полюбил очаровательную, обворожительную мадемуазель Н. Его лучший, искренний друг, к несчастию, полюбил ее же. Кончилось дело тем, что она не вышла замуж ни за того, ни за другого. Она предпочла третьего. Но мой отец и его лучший друг успели стать к тому времени врагами.
Они старательно избегали возможности столкнуться лицом к лицу, оказаться в одной гостиной или на одном вернисаже.
Проходил год за годом. Проходили десятилетия.
Де Голль стал генералом, стал президентом Франции. Его бывший друг стал архиепископом. И они умудрились за весь этот долгий срок ни разу не встретиться, ни разу не оказаться рядом.
Но вот наступает одно майское утро. Президент де Голль в генеральской форме, в головном уборе с высокой тульей, похожем на головные уборы французских железнодорожников, стоит со свитой у своего президентского вагона и… видит, как по узкому Перрону в его сторону движется архиепископ и группа прелатов.
Да, это он, архиепископ Франции со своей свитой. Он шествует впереди в длинной сутане. Он ближе и ближе…
Черт побери эти узкие перроны старых парижских вокзалов! На этот раз встреча лицом к лицу неминуема.
Через три… две… одну секунду — взглядом или словом выскажется то, что копилось более тридцати лет.
Последний шаг. Архиепископ стоит перед президентом и, не взглянув в лицо, смотрит на высокую тулью его головного убора и спрашивает:
— Кондуктор, когда отправляется поезд Париж — Марсель?
Президент де Голль смотрит вниз, на расклешенную, как юбка, сутану, и вежливо отвечает:
— В одиннадцать сорок, мадам!»
Я не случайно рассказал вам эту историю. Интересующее вас событие ее напоминает. У нас с Алексеем Коржиным произошло нечто похожее, хотя… наша пассия вышла не за третьего…
Последнюю фразу профессор так и проговорил без свойственной ему гладкости, с многоточиями. Он не успел закончить, как в кабинет вошла его эффектная моложавая жена с фарфоровым кофейником, двумя чашечками, сахаром и печеньем на подносе.
Натренированно приветливым, внятным шепотом она сказала: «Пейте, пожалуйста!» — и бесшумно, как бы тоже шепотом, вышла из кабинета.
Профессор проводил жену ничего не выражающим взглядом, иалия кофе в чашечки, сделал глоток и сказал:
— Ну что ж, проверим эту область памяти. Ведь деловой памятью ведают у нас одни клетки, — он дотронулся пальцем до седеющей головы, — а лирической памятью — другие. — Он развел руками. — Но где эти клетки, мы еще не знаем. Быть может, мы потому до сих пор не выяснили их точного местонахождения, что век наш, увы, не лирический. Впрочем, эта история произошла в первом его десятилетии. Стиль века еще не был столь железно определен. Тогда это и началось.
Он прищурил глаза, чтобы сократить поле зрения, не видеть полированных книжных полок, заморских модных статуэток, не видеть того, что было перед ним сейчас; на лице появилась снисходительная ирония, с какой стареющий деловой человек оценивает порывы своей молодости.
— В студенческой столовой появилась новая кассирша… В день, точнее сказать, в час ее появления появились и долгообедающие студенты. Ближайшие к кассе столы быстро и густо обросли стульями. И сразу же за этими столами начались философские споры. Причем каждый излагал свои мысли громче обычного и старался направить свой голос в сторону кассы. Но для того чтобы голос долетал именно туда, многим приходилось обедать сидя вполоборота, даже затылком к тарелке.
Обеды превратились в турниры красноречия и глубокомыслия. Мы изо всех сил демонстрировали силу своих интеллектов — только для одного: для скорейшего знакомства с новой кассиршей.
Познакомиться с девушкой, разумеется порядочной, а не легкого поведения, как это именовалось в то отдаленное время, было невероятно трудно. Если некому было вас ей представить, требовалась изобретательность, терпение, хитроумие, а иногда — героизм. Мы, долгообедающие, считали, что от знакомства с новым Платоном, Эпикуром или Цицероном, даже не представленным, невозможно отказаться, ну просто невозможно устоять.
Как вы, вероятно, уже догадались, наша кассирша была дивно хороша. Дивными были не только ее стройный стан и темные косы, уложенные на затылке, не только ее зеленые глаза в обрамлении длинных ресниц… Дивной была серьезность ее лица, бледного, с печатью неподвластности никому. О, неподвластность всегда сильно действовала и на влюбленных, и на тюремщиков. Из-за неподвластности в мире разыгрывалось великое множество трагедий. Незадолго до интересующего вас события за неподвластность царско-жандармским установлениям были изгнаны из университета наши лучшие профессора, А протестовавшие против их изгнания студенты, в лице нашей четверки зачинщиков, были скоропалительно выдворены на Кавказ. Вернуться в Петербург — что я хотел бы особо отметить — нам удалось благодаря вдруг обнаруженным или, быть может, в критическую минуту рожденным талантам Алексея Коржина. До этой критической ситуации он казался ничем не примечательным, неглупым, аккуратненьким студентом, из тех, кто после долгих поисков высшего смысла жизни впадает в хандру.
Говорили, что в мрачном цикле университетского фольклора того времени были и его строки. Всего цикла… нет, к сожалению, не припомню. Но этот стишок, что так долго у нас распевали на веселый мотив, — мне кажется, его сочинения. Стишок такой:
Как хорошо при свете месяца,
От жизни потеряв терпение,
На чердаке своем повеситься —
Из чувства самосохранения.
…Почему я предполагаю, что именно эти строки его?
Потому что он жил на чердаке. Там выгорожена была комната для сдачи студентам, за грошовую, но все же плату — у домовладельцев ничего зря не пропадало, со всего был прок. И еще одна деталь это подтверждает: в чердачное окно Алексея светил месяц…
…Нет, не беспокойтесь, зимой там не было холодно.
Посреди комнаты из пола в потолок проходила огромная квадратная кирпичная труба дымохода, всегда горячая.
Бывая у Алексея, мы приставляли к ней для просушки свои не первосортные и не первой новизны штиблеты.
У этого дымохода сушились и пеленки. Но пеленки — позже… О них упомяну в своем месте. А теперь я расскажу вам, какие таланты были обнаружены у Алексея Коржина, когда мы очутились в труднейшей ситуации.
Во-первых, дар хитроумия. Во-вторых, дар незаурядного чистильщика дамской обуви…
Здесь был пространно изложен уже известный нам эпизод о Коржун-Бурун-оглы, с большим оттенком иронии, неожиданно переходящей в любование, но без существенных изменений и добавлений. Подчеркивалось, что Коржин, тогда еще студент-биолог, удивил всех знанием латинских обозначений всех косточек наших нижних конечностей.
Опускаем эпизод и слушаем дальше.
— До выдворения на Кавказ, как я уже упомянул, Алексей искал высшего смысла жизни и, не найдя, захандрил. Он хандрил, но, в отличие от многих других, впавших в столь беспросветное состояние, никогда не бездействовал. Напротив, он сверх меры загружал себя занятиями. Он начал слушать лекции по астрофизике, как вы понимаете, не имеющие ни малейшего отношения к биологическим наукам.