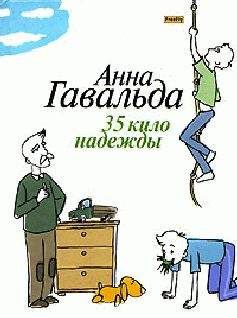Сергей Гандлевский. Трепанация черепа
История болезни
Я люблю, когда врут! Вранье есть единственная человеческая привилегия перед всеми организмами.
Ф. М. Достоевский
Когда я открывал глаза, она уже болела. А может, меня просто-напросто будила головная боль. Белый боксер Чарли, племенной брак, внеплановая вязка, махом сигал на кровать. Я по привычке заслонял солнечное сплетение и пах: в засранце сорок кило весу и люберецкая силища. Жена поворачивалась на правый бок, а я отбивался от кобельего панибратства и брезгливо натягивал отсыревшие за ночь портки и рубаху. В полукедах на босу ногу я спускался на террасу. Не из отцовской бережности, а чтобы урвать еще четверть часа тишины, на цыпочках проходил мимо детской комнаты.
В ушах шумело. По первости я, случалось, озирался: откуда? Пока не смекнул, что я — он и есть источник шума. Чарли вился вокруг меня мелким бесом, и мы доходили до задней калитки. Лес начинался сразу. Я задерживался у ствола поваленной накануне березы. Чистая работа. Жаль, конечно, тем более, что береза — символ русской духовности и особого пути России, но работа чистая. Хотя шведские березы будут поавантажней. Когда мы слонялись с Рубинштейном по Стокгольму в сентябре девяносто второго, меня озадачило засилье роз на газонах. Я взялся умничать. «Лева, — воскликнул я, — ведь северная страна, вроде нашей! Вот что значит близость Гольфстрима!» Рубинштейн согласился со мной в принципе, но вскользь заметил, что во дворе шведского посольства в Москве из-за роз тоже плюнуть некуда.
Чарли метил ближайшую ель, балансируя на трех ногах, потом принимался суетливо кружить по подлеску, наконец пристраивался, напоминая страдальчески осклабившегося горбуна, и оставлял солдатскую кучу. От облегчения он делал два-три скачка вбок, прихватывал пастью еловую шишку и приглашал меня поразвлечься. Дудки, теперь моя очередь.
Я запирался в будке на краю участка, курил, тискал ладонью невыносимый лоб и по привычке читал заголовки на лоскутах пожелтевших газет. «На необъятных просторах Родины». Понятно. «Обуздать…» Оборвано, но тоже понятно. «Позор…» — и снова ворсистый обрыв. «Гореть пионерским кострам!» Гори они огнем. Словом, родина — ширь да простор: папуасы, каноэ, озера. Гутен таг, полуночник-костер! И конечно, привычка к позору… День начался, и что делать? Снять штаны и бегать. Была там еще шутка в том же роде. А! «От Украины, Молдовы, России (в штанах) дети советской страны (без штанов) бросили тоже цветы полевые (в штанах) в гребень дунайской волны (без штанов)»…
Судя по визгу и взаимным обвинениям, дети проснулись. За завтраком я заведу ежедневную волынку: Александра, нет такого слова «клевый»; Гриша, нож передают рукоятью вперед, и тэ дэ. Мрачный из меня получился папаша, скучный. Человек подобен мухе на мяче, — екклезиаствовал я, — и в каждом возрасте жизни своей мнит, что обретается в главной точке шара, а всего мяча не видит, никогда.
Слышится Ленино «доброе утро» и ответное «здравия желаю!» соседа. Это с ним идем мы на днях поселковой улицей, а он все сокрушается, что у него ограду по весне выпрет: работяги схалтурили, неглубоко столбы врыли, а промерзание — метр восемьдесят.
— Вы строитель? — спрашиваю я с подвохом, потому что профессия здешних насельников — зона умалчиванья.
— Все относительно в этом мире, Сережа, все относительно.
Релятивизм.
Господи, Твоя воля! По какому такому правилу буравчика она раскалывается изо дня в день! М-м-м-м. Хоть рулоном туалетной бумаги башку обмотай и ходи так. Чтобы знали, сволочи, как мне хреново.
Нет, соседи не каты — инженеры, завербованные органами, челядь. Но эти братья Черепановы еще покажут зубы, когда, отзавтракав и срыгнув, вгрызутся всем вурдалачьим ведомством в череп мой, полный черного перезвона, кто во что горазд — дрелями, электрорубанками, газонокосилками и бензопилами системы «Дружба»: выкладывай, гад, подноготную.
Катов нет, а вот шпион — есть. Резидент разведки в Сан-Томе и Принсипи. На них, по слухам, Андропов орал на общем собрании: «Американцы, — орал Андропов, — за свои деньги землю роют. А вы сидите в посольстве, как мышь под веником, только зря валюту переводите!» Нашему председателю после восьми лет напоминаний шпион принес 8 рублей за электричество.
— Ты что, — изумился председатель, — физику в школе не учил?
— Показания счетчика, — положил шпион конец прениям.
Это у него прошлой зимой другой полковник при похмельном содействии сторожа скоммуниздил два куба шпунтованного бруса.
С востока и юга отношения самые сносные, и не надо дважды просить дернуть за веревку, когда береза уже подпилена и накренилась. А если есть место в машине, охотно подбросят до Москвы.
Ну дожили: сидеть беззаботно с офицером госбезопасности. Слово за слово разговориться понемногу о житье-бытье… — ровно то, чего я боялся пуще огня, когда три неразборчивых близнеца в кожаных пальто ни свет ни заря в декабре восемьдесят первого ввалились к Оле на Фили.
Понемногу разговориться! И думать не моги! И я мазал себе впопыхах на кухне запястье зеленым фломастером. Так, узелок на память: у тебя есть мать, у тебя было детство с велосипедом и Стивенсоном, ты любишь Пушкина и, главное, будет очень стыдно.
Они поторапливали, машина ждала внизу. На ходу я шепнул Оле, чтобы заговаривала им зубы, и, спрятав пиво под свитер, заперся в ванной. Черт, открывалку забыл! Я отвернул до отказа оба крана, чтобы заглушить возню с бутылкой, и чуть ли не зубной щеткой содрал крышечку. Сидя на краю ванны, я тащил из горла под плеск в два крана. Сам виноват, чего малодушничал, тянул резину? А то не знал, что в конце концов возьмут за хобот. Еще когда позвонил из Чоботов домой и мать не своим голосом намекнула ясней ясного на обыск. А ты еще гулял два дня по пустому поселку, репетировал. Пока Оля прямо не спросила: «Ты что, боишься?» Это уже было слишком. Потянулись в Москву, решили развлечься. Пошли в «Мир» на фильм Дамиано Дамиани «Я боюсь». Людей живьем бросали в жидкий бетон. Правосудие на эти шалости смотрело сквозь пальцы. На выходе, видя, что я не развеселился, Оля предложила: «Купим бутылочку винца?» Купили три сухого, на сдачу взяли одну пива.
— Я готов, — крикнул я визитерам, задвигая ногой бутылку за дверь.
Ехали с ветерком по осевой линии Кутузовского проспекта. Антенна гнулась от скорости. Промахнули дом Бороздиной. Юность. Улицу Дунаевского. Детство и отрочество. Олю близнецы галантно ссадили у метро «Дзержинская»: ей на работу на Цветной бульвар. Покружили вокруг главного здания и пришвартовались к двухэтажной постройке прошлого века. «Приехали. Выходите, пожалуйста».
Сколько же вас, мать ети, город в городе. Черные «Волги». Волокут брезентовые мешки, верно, с обысков. Сотрудники перебегают из подъезда в подъезд, из здания в здание налегке, без верхней одежи. Дают знакомцам пять, скалятся: сам-то как? А твоя как? Поеживаются на морозце. Во влип!
Проводят меня на второй этаж в затрапезную комнату. Сажусь, озираясь — ничего приметного: комната как комната. Вкатывается, улыбаясь, мой Порфирий, представляется: майор Копаев. Выученик Альбрехта, говорю о протоколе.
— Ну вы профессионал, Сергей Маркович, — смеется майор, — а как же без протокола, все по науке.
Доходим слово за слово до Козловского. Один раз видел я его. Или два. Толстый, с рыжей бородой, залысинами; ничего не скажешь, похож на прозаика.
— Ну и о чем вы говорили?
— О литературе. Об «Альтисте Данилове».
— Хочу почитать, все руки не доходят. Хорошо он пишет?
— Я не читал.
— Как же вы обсуждали?
— Бывает, что еще не читал, а уже не нравится.
— «Красную площадь» читали Козловского?
— Нет.
— «Мы встретились в раю»?
— Нет, — что чистая правда. Все «Континенты» шли через Кенжеева, и до меня очередь не дошла. Он Сопровского больше любил, а меня за дурачка держал, татарчонок.
— Как же вы со товарищи собираетесь его защищать, письма пишете, а сами не читали?
И я развожу отрепетированную бодягу про вымысел и клевету.
— А где вам позволят такой вымысел? В ЮАР? В Чили?
— В интересный ряд вы ставите нашу страну, — говорю я и поздравляю себя.
Майор посмеивается и разводит руками: дал маху. Я прошу позволения закурить и тотчас жалею об этом: у меня руки неверны после вчерашнего сухого, а он решит, что со страху. Я прошусь в уборную, и тоже напрасно, потому что он провожает меня оживленным коридором и дышит за моей спиной, а двери в кабинке нет. И что-то мне не журчится. Я еще со школы знаю, что не могу на людях. Под гогот одноклассников уходил, простояв в праздности над писсуаром минуту-другую, и терпел до дому.
Возвращаемся, занимаем исходные позиции. Молчим, долго молчим.