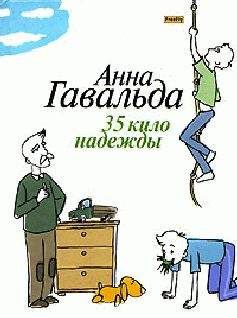Воротились они веселые часа через три, и по обрывкам разговора я понял, что ублюдки оттянулись вовсю, ни в чем себе не отказали, чуть ли не во флягу бурильщикам нассали. Достали нераспечатанную колоду карт и пошли заходить с бубей. Так мы еще один день уговорили.
К ночи, смотрю я, картежники отстрелялись, но в машину по-заведенному спать не лезут, а хоронятся кто где, причем каждый норовит запастись железякой поувесистей. А я пока не понимаю. Курим мы с Чумаком на кабине шестьдесят-шестерки лицом на закат, и он мне вдруг говорит со знаками препинания: «В понедельник к пяти утра на скважину завезут бурильщиков. Они все звери и вооружены, а на солончаке следы. Ты как знаешь, а я часа через три линяю, они разбираться не будут». А я ему в ответ рассказываю кофейное приключение. А он мне, квалифицированный юрист-заочник, перечисляет статьи и сроки: грабеж со взломом, хищение госимущества в особо крупных размерах. Тоже, говорит, разбираться не будут. И часа два в темноте мы шараваристо разгружаем машину, кладем кофе на дно и снова ее загружаем. И курим. «Ну что? — спрашивает Миша. — Я рву когти, айда со мной?» И, заглушая его предложение, состав наш лязгнул, дернул, ожил и тихо-тихо-тихо тронулся.
Через два-три дня прибыли мы к месту назначения, на станцию Мангышлак. Четверо неразлучных скатили пердячим паром по двум доскам газик и погнали в Шевченко: баб трясти. А нам с Чумаком велели сторожить. А мне все кофе покоя не дает. И говорю я Чумаку, решившись: «Что нам здесь высиживать, ебалом торговать? Нашлись начальники: «сторожите». Давай-ка мы этот кофе сбагрим с плеч долой, а то я мандражирую».
— Очко жим-жим?
— Ну.
И мы тем же макаром по тем же доскам скатываем второй газик, извлекаем из-под спуда короба, грузим и едем на станцию; недалеко — с километр. С заднего хода, не торгуясь, мы вносим это дело в подсобку станционного буфета, получаем от мамули что нам причитается плюс четыре «Солнцедара». И все довольны. Потом мы немножко катаемся по пыльному поселку Мангышлак и возвращаемся на сортировочную. Все цело. Мы раскладываем посреди запасных путей экспедиционный стол, брезентовые кресла, на стол ставим горючее, хлеб, зелень и, не спеша, пьем, чтоб дети грома не боялись и хуй до старости стоял! Смеркается — мы сидим в сумерках, темнеет — мы сидим в темноте, пока мирное наше сиденье, как в кошмарном сне, не оборачивается избиением Миши Чумака при свете фар. Это ни с чем, с ломотой в мошонках, трезвая и злая, воротилась блатная четверка. И я прыгаю, слепой от яркого света, тычу конечностями в матерящуюся кучу-малу и зову на помощь хоть кого — людей, черта, дьявола, Чипа и Дейла, которых не было тогда и в помине.
— Помоги ему, Аркадий, он не может найти.
Пока я разорялся, Чумак мой спекся и теперь давал качку в коридоре в поисках двери в уборную. Да и меня как-то стремительно развозит. То ли я выдохся, солируя, то ли и впрямь андроповка — коварная водка. И я ловлю на себе озабоченный взгляд Аркаши Пахомова. Не бэ, хозяин, мы встаем и уходим и, клянусь, мы дойдем до места, и так будет со всяким, кто повысит цены на техасских свиней! На посошок.
Около метро «ВДНХ», где вечная толчея, мы сразу теряем друг друга. Но я подумал, что Чумак доберется, адрес он помнит. Вернее, ничего я не подумал, а был разбужен дежурной по станции на «Беляево», конечной. Я выхожу, трезвея, на перрон и спохватываюсь: планшет. Он точно был при мне, когда мы уходили от Пахомова. Надо бы мне туда еще метрику положить, для комплекта! М-м-м!
И четыре дня — мало мне было заочного обыска и нервотрепки с ожиданием привода — меня оторопь брала, что предстоят жэки, паспортные столы, военкоматы, отделения милиции, заявления, объяснения, справки, справки, справки! А планшет — вот он, рыбка моя, вот он, птичка моя, — лежит на столе у Копаева.
— Ну так как же, — выводит меня Копаев из радостного замешательства. — Что все это значит? — и он строго указывает подбородком на злополучную расписку.
Как такое объяснить? Ей-Богу, не знаю. Благорасположенного, но здравомыслящего человека стошнит от своеобразия иных моих обстоятельств… А тут белоглазый с комсомольским брюшком. Как объяснить, что можно выйти на три минуты с помойным ведром, а вернуться через трое суток из Ленинграда и без ведра?
Ну да, мы сидели неделю назад у нас с Кенжеевым, в Чоботах, где снимали комнату и кухню на зимней даче бывшего прокурора по расстрельным делам, Николая Ивановича. Через проулок от аптеки. Кроме нас с Бахытом были Сопровский и Володя Семенов. Говорили, ясное дело, об аресте Козловского. Пили, конечно. Деятельный Сопровский сказал, что нельзя бросать товарища по цеху в беде. Надо написать письмо. Один экземпляр для отмазки отправить в Союз писателей, а другой «потерять». Высказывали все за и против, потом стали составлять цидулку. Пили. А этот Володя Семенов — хороший товарищ и в Бурденко ко мне приходил, но у него есть одна особенность: когда он берет свою дозу, он становится индюк индюком. Вот и на этот раз — Володя залил глаза; тут люди горячатся, письмо турецкому султану катают, а он гудит: не надо ничего бояться, я подмахну любую бумагу, не глядя, — и все это под руку. А меня этот гундеж бесит, потому что не знаю, как у остальных, а у меня очко играет. И главное, стрезва у Володи хватает и честности и мужества рассказывать, как в шестидесятые ему Буковский сказал: «Вали все на меня, меня все равно сажать будут». Потому что Володю собирались гнать из комсомола за то, что он, сын академика, разрешил выставиться в отцовской квартире каким-то не тем художникам. А сейчас он огрел триста с лихуем и геройствует.
— Правда, — спрашиваю, — любую бумагу подпишешь?
— Правда, — говорит.
— Не глядя?
— Не глядя.
И я с края стола, пьяный урод, на листке в косую линейку пишу: «С уставом МРП ознакомлен. Прошу считать меня членом боевой организации. Обязуюсь в указанный срок быть в назначенном месте с оружием». Володя мне эту бумагу подмахивает, как и обещал, не глядя. А я даю ему ее прочесть, а он отмахивается от меня добродушно со словами: «мудозвон». Я перестаю злиться и говорю, что в трудную минуту буду у него с помощью этой бамажки деньгу вымогать. Как она попала в планшет — ума не приложу.
Все это, но вкратце, без фамилий и психологии, я и излагаю Копаеву, а он за мной записывает, повторяя, как дошкольник, вслух, и я слышу краем уха: «с целью вымогательства».
— Что вы делаете, — кричу я, — это ведь статья!
И он улыбается. А после посерьезнел и говорит:
— Значит, мы делаем так. Вы нам приводите этого вашего товарища, раз не хотите назвать его имени без разрешения. А мы вам отдаем документы, идет? И давайте трудоустраивайтесь, а то смотрите, какой у вас разрыв — семь месяцев. И имейте в виду, мы знаем все, даже про морковку Климонтовича. Пропуск вам подпишут внизу.
— У меня нет паспорта.
— У, черт, — и он проводит меня через вахту.
А Коля Климонтович только на днях рассказывал, что у себя в бибиревском универсаме он, от нечего делать, поменял местами ценники на контейнерах с морковью.
Я вдыхаю дивный воздух декабря, закуриваю и думаю, что Володе Семенову я, конечно, ничего не скажу — и без того позорище. Документы они мне и так рано или поздно вернут. Еще я думаю: «Диссидент. Освободитель Отечества. Узник совести. Дерьмо. Алик подзаборный». Еще я думаю, стирая снежком какую-то зелень с запястья, что на работу придется устраиваться, раз имел глупость засветиться.
Биография у меня в некотором смысле образцово-показательная. В ней налицо все приметы изгойства: бытовая неприкаянность, пьянство, трения с властями, вечная сторожевая служба, сезонные экспедиции. Все, с чем сейчас так носятся редакционные тузы, начинавшие соловьями перестройки, пугавшие иного отщепенца — было, было — внезапными объятьями, хлебом-солью и воплем: «Честный вы мой человечек!» Сейчас меня даже коробит от этой биографической стадности, от жизни по лекалу. Неужели нельзя было выдумать ничего своего?
«Ты же интеллигент в седьмом поколении! — с гневом и горечью отчитывал меня отец. — Лучшие годы коту под хвост, ни уму ни сердцу!»
Ну это мой бедный папа не совсем прав, были и поучительные истории. Еду я на попутках с королевским пуделем Максимом вдоль границы из Ванча в Ош. Контингент ввели в декабре, а я еду в октябре. Граница жиденькая. Заставы через 50 километров, столбы с колючей проволокой местами повалены. Мы с Максимом даже купнулись в Пяндже, рискуя схлопотать пулю. В езде на попутках есть одно правило: платить можно не платить, а вот спать нельзя. Это заразительно. Шофер закемарит с тобой заодно, и машина сыграет в пропасть. Надо водилу развлекать, отрабатывать проезд. Ехал я урывками; кто на пять, кто на десять километров подбросит. Первую ночь ночевал в придорожном кишлаке, вторую — в Хороге, аж в гостинице. Стоял перед ней бюст Маркса. И я диву дался. Немецкий безвестный экономист, ебанашка, а вот через сто лет с гаком торчит его гипсовая башка чуть ли не в Гималаях!