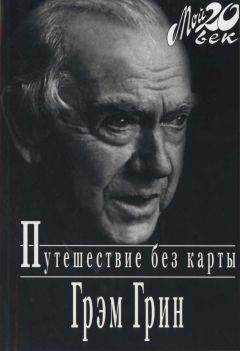– Покайся как следует, – сказал священник, – и прочитай… прочитай… Четки у тебя есть? Тогда читай «Радостные тайны». – Глаза у него закрылись, губы и язык не довели до конца отпущения грехов… Он снова встрепенулся, проснувшись.
– Можно, я приведу женщин? – говорил старик. – Прошло пять лет…
– А-а, пусть идут. Пусть все идут! – злобно крикнул священник. – Я ваш слуга. – Он прикрыл глаза рукой и заплакал.
Старик отворил дверь; снаружи под огромным сводом слабо освещенного звездами неба было не так темно. Он подошел к женским хижинам, постучался и сказал:
– Идите. Надо исповедаться. Надо уважить падре. – Женщины заныли в ответ, ссылаясь на усталость… можно ведь и утром… – Вы хотите обидеть его? – сказал старик. – Как по-вашему, зачем он сюда пришел? Такой праведный человек. Он сидит сейчас у меня в хижине и оплакивает наши грехи. – Старик выпроводил женщин на улицу; одна за другой они засеменили по просеке к его хижине, а он пошел по тропинке к берегу сменить мальчика, который следил, не переходят ли солдаты реку вброд.
Мистер Тенч уже не помнил, когда он в последний раз писал письмо. Он сидел за верстаком и посасывал кончик стального пера, подчиняясь снова вернувшейся к нему потребности отправить хоть какую-нибудь весть по единственному сохранившемуся у него адресу – в Саутенд. Жив ли там еще кто-нибудь? Он нерешительно обмакнул перо, будто произнес наконец первое слово, завязывая разговор в гостях, где толком никого не знал. Сначала надписал конверт: «Миссис Марсдайк, Авеню, дом 3, Вестклиф. Для передачи миссис Тенч». Это был адрес ее матери – властной, всюду сующей свой нос женщины, которая уговорила его повесить свою вывеску в Саутенде. «Прошу переслать», – приписал мистер Тенч. Если старуха догадается, от кого оно, то ни за что не перешлет, но, может быть, за эти годы она уже забыла его почерк.
Он пососал лиловое от чернил перо. А что дальше? Писать было бы легче, если б его письмо имело какую-то цель, а не только смутное желание сообщить хоть кому-нибудь, что он еще жив. Может быть, письмо окажется некстати – вдруг жена снова вышла замуж? Но тогда она не постесняется разорвать его. Крупным, четким ученическим почерком он вывел: «Дорогая Сильвия» – и прислушался к шипенью тигля рядом на верстаке. В нем готовился золотой сплав. В этом городишке нет лавок, где можно купить нужный ему материал в готовом виде. И вообще в таких лавках не принимают в работу четырнадцатикаратовое золото для зубоврачебных изделий, а более высокая проба ему не по карману.
Беда в том, что здесь никогда ничего не случается. Он вел жизнь трезвую, благопристойную, размеренную, вполне во вкусе миссис Марсдайк.
Мистер Тенч взглянул на тигель; золото должно было скоро соединиться с лигатурой, и он всыпал туда чайную ложку угольного порошка, чтобы удалить из соединения кислород. Потом снова взял перо и задумался, глядя на бумагу. Он плохо помнил свою жену – помнил только шляпы, которые она носила. Как ее удивит эта весточка после такого долгого перерыва! Со смерти их сына они написали друг другу только по одному письму. Прожитые годы, по существу, проходили для мистера Тенча почти бесследно – они скользили быстро, не меняя его образа жизни. Шесть лет назад он собирался уехать домой, но курс песо упал после какой-то революции, пришлось перебраться на юг страны. За последние годы у него опять скопились деньги, но месяц назад где-то произошла очередная революция, и песо опять упало. Надо ждать – ничего другого не остается… Стальное перо опять полезло в рот между зубами: воспоминания таяли в маленькой накаленной комнате. А зачем вообще писать? Мистер Тенч уже не мог припомнить, откуда у него взялась эта странная идея. В наружную дверь кто-то постучал, и он оставил письмо на верстаке… «Дорогая Сильвия» пялилось со страницы – крупное, броское, безнадежное. На реке зазвонил пароходный колокол: это «Генерал Обрегон» вернулся из Веракруса. Мистеру Тенчу вдруг вспомнилось: маленький страдающий человек беспокойно мечется по комнате, задевая за качалки… Приятно побеседовали. Интересно, что с ним случилось потом, когда… И воспоминание умерло или просто ушло. Мистер Тенч привык к тому, что люди страдают, такова была его профессия. Он подождал из осторожности, пока чья-то рука снова не стукнула в дверь. Послышалось: «Con amistad» [друг (исп.)] – доверять никому нельзя… И только тогда мистер Тенч отодвинул засовы и впустил пациента.
Падре Хосе прошел в широкие, в классическом стиле ворота с выбитой поверху черными буквами надписью «Silencio» [молчание (исп.)] – прошел в то место, которое люди когда-то называли «Божьей нивой». Оно напоминало участок за стройки, где каждый владелец строил как ему взбредет в голову, не считаясь с соседями. Большие каменные склепы были самой разной высоты и самых разных форм; на некоторых крышу украшал ангел с замшелыми крыльями; в других сквозь стекло окошка виднелись на полках ржавеющие металлические венки. Будто заглядываешь в кухню дома, жильцы которого выехали, забыв опростать цветочные вазы. Тут было что-то родное, близкое – ходи куда хочешь, что хочешь разглядывай. Жизнь отступила отсюда навсегда.
Из-за своей тучности падре Хосе с трудом пробирался между склепами; вот где хорошо побыть одному – ребятишек нет, можно разбудить в себе слабенькую тоску по прошлому, а это все же лучше, чем ничего не чувствовать. Некоторых из здешних покойников ему пришлось хоронить самому. Его воспаленные глазки посматривали по сторонам. Обходя серую громаду склепа Лопесов – купеческой семьи, которая пятьдесят лет назад владела единственной гостиницей в столице, – он обнаружил, что все-таки не один здесь. На краю кладбища, у стены, копали могилу; двое мужчин делали свое дело быстро. Рядом с ними падре Хосе увидел женщину и старика. У их ног стоял детский гробик. Выкопать могилу в рыхлой почве было недолго; на дне ее собралось немного воды. Вот почему люди с достатком предпочитали лежать в склепах.
Работа на минуту прекратилась – все четверо посмотрели на падре Хосе, и он попятился к склепу Лопесов, чувствуя себя лишним здесь. Яркий, горячий полдень был чужд горю; на крыше позади кладбищенской стены сидел стервятник. Кто-то сказал:
– Отец…
Падре Хосе осуждающе поднял руку, как бы показывая, что его здесь нет, что он ушел – ушел прочь, с глаз долой.
Старик сказал:
– Падре Хосе. – Все четверо жадно смотрели на него. Покорные судьбе до того, как он появился перед ними, теперь они требовали, умоляли… Он пятился, стараясь протиснуться между склепами. – Падре Хосе, – повторил старик. – Молитву… – Они улыбались ему, ждали. Смерть близких была для них делом привычным, но теперь среди могил внезапно мелькнула надежда на благо. Они смогут похвастаться, что хотя бы один из их семьи лег в землю с молитвой, как полагается.
– Нельзя, нельзя, – сказал падре Хосе.
– Вчера был день ее святой, – сказала женщина, будто это имело какое-то значение. – Ей исполнилось пять лет. – Это была одна из тех мамаш, которые первому встречному показывают фотографии своих детей. Но сейчас она могла показать только гроб.
– Нет, не могу.
Старик отодвинул гробик ногой, чтобы подойти поближе к падре Хосе. Гроб был маленький, легкий, будто в нем лежали одни лишь кости.
– Не полную службу, вы же понимаете, только молитву. Она невинное дитя, – сказал он. В слове «дитя» было что-то странное, древнее, пригодное только для этого каменного городка. Оно состарилось, как склеп Лопесов, и было уместно только здесь.
– Закон не позволяет.
– Ее звали Анита, – продолжала женщина. – Я болела во время беременности, – пояснила она, как бы извиняясь, что ребенок родился слабым и от этого всем вышло такое беспокойство.
– Закон…
Старик приложил палец к губам:
– Не сомневайтесь в нас. Ведь только одну молитву. Я ее дед. Это ее мать, ее отец, ее дядя. Доверьтесь нам.
Но в том-то и была беда – он никому не мог довериться. Только придут домой, кто-нибудь из них обязательно начнет хвастаться. Он пятился назад, отмахиваясь пухлыми ладонями, мотая головой, и чуть не наткнулся на склеп Лопесов. Ему было страшно, и в то же время гордость клокотала у него в горле, потому что в нем снова увидели священника, его уважали.
– Если б я мог, – сказал он. – Дети мои…
Внезапно, неожиданно над кладбищем взметнулось горе. Эти люди привыкли терять детей, но им не было знакомо то, что лучше всего знают в мире, – крушение надежд. Женщина зарыдала, ее сухие, без слез рыдания были как попавший в капкан и рвущийся на волю зверек. Старик упал на колени и протянул руки.
– Падре Хосе, – сказал он, – больше некому. – Он словно молил о чуде. Неодолимое искушение охватило падре Хосе – рискнуть и прочесть молитву над могилой. Его безудержно потянуло выполнить свой долг, и он начертал в воздухе крестное знамение. Но затем страх, будто наркотик, парализовал его. Там, у набережной, его ждет презрение и безопасность; отсюда надо бежать. Он в бессилии упал на колени и взмолился: