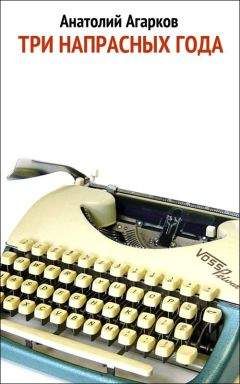Мы были первыми. А потом, каждый день, команда за командой покидали Анапу бывшие курсанты одиннадцатой роты. Гулко стало в кубриках и тоскливо. Горстка последних решила устроить «прощальный вечер» старшине Петрыкину. Тот сразу после экзаменов и с начала малого дембеля перебрался ночевать в баталерку. Ребята пасли его, но Тундра был хитрым и не попадался. Терпение лопнуло — пошли дверь ломать. На шум Ничков притопал. Этот мог уговорить, этого уважали. Но спасал наш инструктор не Петрыкина — он так и сказал:
— Моряки, причём здесь дверь?
Знали ли об этом отцы-командиры? Думаю, Седов знал, но не вмешивался. Старший мичман, по моему разумению, полагал — раз присутствует прямой процесс воспитания курсантов инструктором, то имеет право быть и обратный. Это полезно. Ведь другие старшины не запираются на ночь в баталерку — так и спят на своих местах вместе с личным составом. Да-а, Петрыкину и я был не против пару раз в хавальник сунуть. Но наша команда далеко уже была от мест благословенных. Галопом проскочили до Волгограда, а здесь тормознулись на пару-тройку часиков. Не без пользы. Лейтенант — фамилия у него Берсенёв — говорит:
— Вы, парни, дайте домой телеграммы — в Челябинске пересадка и часов восемь-десять будем загорать на вокзале.
Тюрин, Шлыков и я, поколебавшись, пошли и дали — мол, буду в Челябинске такого-то, поезд такой-то, стоянка десять часов. Про стоянку — это чтобы много не платить. Почему колебался, спросите. Рассуждал: что родным делать больше нечего — меня встречать да провожать. Вон парни из провинции и не почесались даже. Тюрин со Шлыковым — городские, с ними всё ясно — на трамвайчик сел и на вокзале. Но очень мне хотелось маму увидеть, с отцом примириться. Я ему на день рождения «синявку» послал — это рубашка форменная для мичманов и офицеров — а он и спасибо не сказал. Да-а, дуется старый. Приедет ли?
Вот он, Челябинск. На перроне полно народу. Высунулся в окно. Смотрю. Лица, лица…. Мама! Господи, приехали! Сестра вон.
Поезд ещё тормозит. Я толкаюсь к выходу бесцеремонно. Кто-то хватает меня за плечо:
— Эй, моряк, осади — куда прёшь?
Я поворачиваюсь, и мужик-верзила прячет руку. Я ещё не знаю, что моё лицо перепачкано сажей, и по щекам бегут слёзы. Тут, наверное, любой опешит.
Прыгаю с подножки вагона и попадаю в объятия отца. Потом мама, потом зять, потом…. Потом…. Сестра не хочет целовать:
— Какой ты грязный!
Вытирает своим платочком моё лицо.
Пошли в ресторан, выпили, разговорились.
— Чего не пишешь-то? — это я отцу.
— А ты?
Действительно. Послал телеграмму и ждал писем. Как пацан. Нет, как капризный ребёнок. Привык, чтоб родители за мной носились — ах, сыночка, ах, сыночек, не холодно ль тебе, не сыро? Блин, стыдно.
Сестра рассказала:
— Мы и забыли про папкины именины. Приходим, а он лежит в синей рубахе, которую ты прислал. Вот, говорит, сын на службе помнит, а вы….
Спустился в туалет. Смотрю — знакомый затылок. Подхожу.
— Закрыть и прекратить!
Он чуть было не закрыл, не прекратив. Колька! Здорово, братан!
На нём моя рубашка. Вещи я в общаге оставил, ребятам — носите, если подойдут. Значит, искал меня. Зачем?
— Пойдём в ресторан — у нас столик накрыт.
Поднимаемся.
— Ты как тогда отбился?
— Да, блин, думал, кранты — засунут пику под ребро. Но повезло. Выскочил на улицу — навстречу свадьба. Васька Прокоп младшего брата женит. Я в толпу вписался, они следом. Меня угостили, их уложили: Прокопы — парни крутые. А ты чего в армию смотался?
— В армию я бы не пошёл. А тут вакансия подвернулась в пограничном флоте — как не воспользоваться.
— Ну-ну….
Потом уже, прощаясь на перроне, как бы между делом, спросил:
— С Надюхой что?
Он плечами дёрнул — не знаю, мол, и не интересуюсь. Понятно.
Девчонка Славика Тюрина вдруг запричитала, закричала в голос, прощаясь. Плакала, конечно. А мне её истерика — как удар под дых. Смотрю, отец заморгал часто-часто. Мама тянет платочек к носу. Как же — сынуля на китайскую границу едет.
Колька обнял несчастную:
— Что ж ты так убиваешься? Я-то здесь, с тобой остаюсь.
Она доверчиво склонила голову на его грудь — Колька всегда девушкам нравился.
Тюрин высунулся из окошка:
— Это что за дела? Люда! Людка!..
Но состав загрохотал, набирая скорость, и перрон, и все, кто на нём был, остались позади.
На несколько минут тормознулись в Златоусте. Закатный час — солнце скрылось за горами, с них на город ползут сумерки. Перрон пуст и тих. И в этой тишине отчётливо и напряжённо, нарастая, зазвенели девичьи каблучки. А вы, наверное, и не знали, как это может за душу щипать — перестук женских каблучков. Как будто в сердце стучатся — ближе, ближе….
Чистяков стоит у вагона, широко расставив ноги, выпятив богатырскую грудь. Вихрем что-то под окном промелькнуло, и вслед за глухим ударом тел оборвался стук каблуков — далеко не дюймовочка повисла на чистяковской шее. Меня б таким ураганом смело к чёртовой матери.
Грех смотреть на чужие поцелуи, и нет сил, взор оторвать. Где же ты, моё счастье каблучковое? Спишь ли, ешь ли? Сидишь за партой, иль спешишь на танцы? Хоть намекни, как ты выглядишь. Где и когда найдёшь меня — истосковалась вся душа.
Подошли чистяковские родители. Ну, мамашка-то точно родная — косая сажень в плечах. А мужичонка с ней рядом плюгавенький — такого не жалко зарубить. Мать дождалась терпеливо, когда девушка Чистякова опустила, и притянула его голову к необъятной своей груди. Мужичонку допустили последним — и только к рукопожатию. Всё, Чистяков, прыгай на подножку — поезд тронулся.
До Читы доползли без приключений. Разве что настроение у всех без исключения было подавленным. Встреча одним мгновением пролетела, а расстройств — на всю оставшуюся жизнь. Одно меня радовало — с батяней примирился. Приеду в часть — сразу напишу.
Тюрин допытывался — что за человек мой сват? И по какому праву он обнял его девушку? Чем Славика успокоить? Врать не хочется, стращать не хочется — всё будет так, как девчонка захочет, а сват лишнего себе не позволит. Сказал и сам себе не поверил…
Злоключения начались в Чите — здесь у нас опять пересадка. Какой-то хмырь, весь в наколках и тельник-майке, привязался — братки, мол, братки. Говорит, дальше едем вместе, и нам надо за него держаться. Летёху советует тряхнуть, а, тряхнувши, выкинуть из вагона.
Берсенёв ему:
— Слышь, убогий, тельник — нижнее бельё, ему более кальсоны подходят.
У хмыря в руке початая бутылка пива. Две девицы непонятного возраста, как собачки, бегают за ним и всё норовят к горлышку приложиться. Мужик их отталкивает, сам отхлёбывает. На ноги девицам глянешь — вроде ничего. На лица — бр-р-р! — хуже атомной войны. Хмырь нам подмигивает:
— Сосок хотите? За фунфырь уступлю.
А потом как даст одной кулачищем. Дама упала, и он носом в стенку — кто-то из наших приложился. Окружили, а у него в руках финка.
— Попишу, моряки, …ля буду, попишу.
Чистяков:
— Отойдите.
Ремень из тренчиков вытянул, на руку мотает, а хмырь нож перед собой и на прорыв пошёл — вырвался на перрон и стрекача задал. Тут наш поезд объявили. Садимся, а билеты наши раскидали нас по всему составу. Я в общем вагоне один оказался. Прошёлся туда, вернулся обратно — нет мест свободных. Я к проводнице.
— Нет, — говорю, — свободных мест.
Она:
— Садись, где найдёшь.
Я:
— Не найду — к вам приду.
— Приходи.
Снова бреду под завязку набитым вагоном. Солдат на нижней боковой спит. Бужу.
— Вставай, пехота, приехали.
Полку раскидали на столик и два сиденья. День проехали. На ночь глядя, солдат предлагает.
— Давай ляжем валетом.
Мне только ног твоих в нос не хватало! Впрочем, мои тоже не «шипром» пахнут. Легли. Он мои голени обнял, я его. Спим, не спим — пытаемся. Среди ночи он пропал. Я раскинулся на полке и заснул с удовольствием. Вернулся солдат, будит:
— Слышь, моряк, у тебя на бутылку есть?
— Откуда деньги? Из учебки еду — лейтенант командир.
— Ну, тельняшку продай.
— Тебе что приспичило?
— В конце вагона двух тёлок дерут — за бутылку дают. Я был, отметился — сходи и ты, а я посплю.
— Слушай, мне как бы немножко не хочется.
— Да брось?
— Нет, правда, потерплю чуток.
— Ага, совсем чуток — три года.
— Теперь уже меньше.
— Нет, я ради этого дела последнюю рубаху отдам.
Солдат скинул ботинки и обнял мои голени. Лежал, лежал, ворочался, ворочался — потом встал и куда-то пропал. Наверное, пошёл последнюю рубаху проё…. Как бы это выразиться цензурно, и чтоб все поняли?
В Хабаровске опять пересадка с ночёвкою на вокзале. Во вполне приличном гальюне привели мы себя в порядок — умылись, побрились, почистились. Вот погладиться не удалось — а так был бы полный ажур. Пристроились ночевать — строем на баночке (лавка вокзальная), головой на плечо соседу.