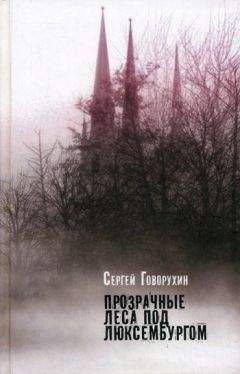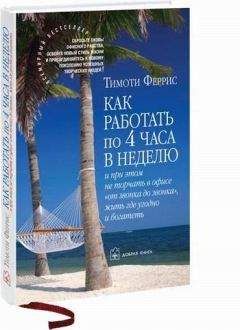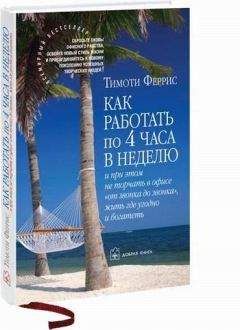– Давай знакомиться, Фикс.
Фикс повел на меня неумолимыми свинячьими глазками и предупредительно зарычал.
Под одной крышей нам не ужиться, понял я, кому-то придется уйти. Как ни странно, твердо сказать, кому – я не мог.
Утром, требуя положенного выгула, Фикс стянул с меня одеяло и положил свои жуткие двадцать атмосфер на край подушки. Я представил эти челюсти на своем горле и поспешил подняться.
Меня наконец выпустили на корт. В паре с известным тележурналистом.
Журналист был весел и раскован. Игрок он был не ахти какой, но бог по сравнению со мной.
– Подавай, ассоциативный! – кричал он через сетку. – Хорошо, ассоциативный! В белый свет как в копеечку.
Он подначивал меня дурацкими шутками, я злился, пропускал мячи и оттого играл все хуже и хуже.
Очередной мяч засвистел далеко за пределы корта.
– Классный удар! – усмехнулся журналист. – С тобой, президент, наверное, хорошо водку пить, а игрок из тебя дерьмовый…
Он совсем со мной пообвыкся.
Улетали в Галактику мячи.
В конце концов ему надоело. Он остановился и, поигрывая на ноге ракеткой, сказал:
– Собирай мячи, ты, игруля!
Что-то во мне случилось. Я перешагнул через сетку и врезал ему в челюсть по всем правилам: сверху вниз, довернув ногу и перенеся вес тела на левую сторону. Он рухнул.
– Удар на мастера спорта, – услышал я за спиной.
Я обернулся и увидел Филиппыча. Мы обнялись.
– Челюсть ты ему, конечно, сломал, – огорчился Филиппыч. – Будут неприятности.
– Плевать.
– А у тебя хороший защитный слой. В былые времена ты бы ему врезал гораздо раньше.
– Мудрею, – отвернулся я.
– Ну-ну… Может, вернешься?
Я виновато, как много лет назад, шмыгнул носом:
– Я теперь большой человек, Филиппыч. Не поймут.
– Большой? – удивился Филиппыч, бегло окидывая меня взглядом. – Вроде все тот же: рост – сто восемьдесят, габариты прежние.
Как он меня бил! Точными, рассчитанными ударами.
– А может, откроем платную секцию, – пытался выкрутиться я, – арендуем зал, повесим мешки. Будем вот таких трясти – толстосумов. Я тебе зарплату положу впятеро больше прежней.
Я видел, как тускнели его глаза, пропадал ко мне всякий интерес.
– Эх, Борька…
И пошел. Старый уже, уставший.
Всю жизнь он отдал таким, как я. И вот мы выросли.
– Филиппыч, – позвал я.
Он не обернулся.
Ночью она спала, я сидел на кухне, забравшись с ногами на подоконник, и смотрел на затихающий город. В домах напротив еще мерцали теплым светом окна: пили чай, стелили постели.
Мальчишкой в ленинградском учебном полку я сидел на подоконнике курительной комнаты после отбоя. Так же горели редкие окна в домах напротив, так же текла жизнь. Я смотрел на эти окна, покуривал украдкой и думал, что оставшиеся полтора года службы в сущности пустяк, который необходимо пережить, для того чтобы потом началось настоящее.
Прошли полтора года, еще десяток лет, а я так и не заметил, когда началось настоящее и началось ли вообще. Может, те полгода в учебном полку были лучшим временем моей жизни. Временем надежд.
Она спала. Я освободил край кухонного стола, положил перед собой бумагу.
Прошел час. Девственная белизна бумаги угнетала меня, давила настольная лампа, растекалась пустота. Я потрогал голову: пульсировали виски – значит, что-то еще билось во мне.
«Мама» – написал я большими буквами. Подумал и приписал: «мыла раму».
Мама мыла раму. Мыла, мыла – кончилось мыло. Грязная рама – где же ты, мама?
Кто-то тронул меня за плечо. Было утро.
– Борис… – услышал я.
Я заснул под светом настольной лампы, уронив голову на «маму, мывшую раму». Ее-то она в конце концов и увидела.
– Борис! – в невероятном изломе сошлись ее брови. – Послушай, – растягивая слова, медленно произнес я, – если бы ты знала, как люто я завидую инженеру Щукину из «Двенадцати стульев» – его Эллочка-людоедка пользовалась в обиходе почти двадцатью словами.
Я мерил шагами узкий коридор фирмы. Проходили сотрудники, здоровались, обменивались бумагами. Разрабатывали программы компьютерщики, считали экономисты. Влажная тряпка уборщицы коснулась моих ботинок. Работал раскрученный, хорошо отлаженный механизм. И мое присутствие ничего не меняло здесь.
Когда я вошел, Фикс лежал на моей постели. Снисходительно поприветствовав меня взмахом хвоста, он спрыгнул на пол, прошел в коридор и подвинул лапой ошейник.
А она ушла. Навсегда. В этом красноречиво убеждало отсутствие ее чемоданов.
На улице я спустил Фикса с поводка.
– Пасись.
Он тут же пропал из виду.
Отчего мне так грустно? Я будто увидел себя сверху наезжающей камерой: одного, пронизанного ветром, в огромном колодце двора.
Сначала я услышал всхлип, затем кто-то взвизгнул, завыл, пронзительно взывая о помощи. Я побежал.
Подмяв под себя, навалившись каменной грудью, Фикс рвал Пушка, сомкнув на его затылке страшные челюсти.
– Фикс! – закричал я. – Назад, Фикс!
Он не слышал. Ни меня, ни захлебывающегося визга Пушка. Работали двадцать атмосфер.
И тогда я ударил. Носком тупого ботинка под его мощные бедра. Он разомкнул челюсти, перевернулся в воздухе и пружинисто пал на передние лапы.
Сейчас он прыгнет – понял я. И замер в ожидании прыжка. Прыгай – я успею отскочить в сторону и размозжить тебе череп.
– Прыгай!
Фикс целился мне в глотку.
– Прыгай! – кричал я – меня била истерика. – Прыгай, сволочь!
…Он скинул с плеч прожженный, с выведенным хлоркой номером на груди бушлат и протянул мне.
– Оставайся…
Я потянулся к бушлату, и вот уже шел в длинной колонне этапируемых с тощим «сидором» за плечами. Я оглянулся, колонна сбилась, кто-то толкнул меня, но я успел стянуть черную лагерную шапку и помахать ему на прощание. Еще я успел улыбнуться…
1991Размышления Сергея Ильича Худякова
Сергею Ильичу тридцать два. Можно называть его просто Сережей, но все называют его Сергеем Ильичем. Так будем звать его и мы.
Сергей Ильич – обыкновенный гражданин. Не писатель, не кандидат наук, не моряк торгового флота… Сергей Ильич – распространитель театральных билетов.
Распространять билеты с каждым днем становится все труднее и труднее, но служба дает Сергею Ильичу много свободного времени, а городским транспортом он никогда не пользуется.
Из записных книжек Сергея ИльичаБольшинство людей полагают, что сетка на окне служит для защиты от комаров, мух и прочей твари. Думал так и я, пока сетка на моем окне не порвалась окончательно. И вот постепенно мусор, попадающийся под руку, я стал выбрасывать в окно…
Всем нам, обремененным интеллигентностью, один шаг до внутреннего запустения, хамства обыкновенного…
Шаг этот – сетка на нашем окне.
Возраст определяется не количеством прожитых лет, а качеством жизненного опыта и мудростью выводов, сделанных на основании этого опыта.
Ворох написанного: наброски, сюжеты, рассказы, незаконченные повести, стихи, наконец. Сколько долгих лет. И ничего.
Художник должен быть осязаем, прочувствован. Я – даже не услышан. Так кто я? Писатель или распространитель билетов? Я-то кем себя ощущаю?..
Как гармонично все было в Пушкине. Все окружающее звучало: имение в Михайловском, няня Арина Родионовна, друзья Чаадаев, Пущин, убийца Дантес. И осень у него была не где-нибудь – в Болдино. Болдинская осень.
И у меня осень. На улице Шиногина. Был в нашем городе такой общественный деятель.
Шиногинская осень… Да я и не Пушкин.
Рок, что ли, висит над Россией? Не дает она добраться до сердца своего. Все прогрессивное губится. Если талантлив – не признан, затравлен, убит. Цифры роковые.
Случались и в России реформаторы, но не прижились, – начинания их по миру пустили.
Ждет она: мессию ли, народ другой… А нам всем, ныне живущим, мужества исполненным, – вечная слава!
Живи, пока способен отвечать за свои поступки и не быть обременительным для других.
Одно из тяжких преступлений Советской власти: паспортный режим, невозможность соединения близких по крови и духу людей.
Живет он в Вязьме, а его старинный единственный друг в Москве. Надо бы им вместе – на кого еще положиться, но: переезды, прописки, разрешения, обмены неравноценные, браки фиктивные… И звонят они не часто (в Вязьме с телефонами не очень) и встречаются раз в год с оказией – пьют и плачут на вокзале, и пишут все реже и реже, и забывают наконец.
Окружают себя совсем другими – похуже, поненадежнее, но все же рядом – сорок минут на метро…
Хорошего было мало в моей жизни. За что и благодарен.
Не оставляет меня та собака, сбитая на мостовой. Рыжая.