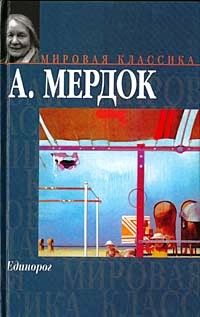И тем не менее сегодня мысли о Джессике не слишком портили ему настроение. Как правило, Дьюкейн предпочитал не уповать на то, что боги чудесным образом вызволят его из бед, которых он натворил по глупости, — это лишь нынче тревоги, связанные с Джессикой, померкли, заволоклись облачком смутного оптимизма. Так или иначе, все еще образуется, думалось ему. Оттого, быть может, что здесь же, на ближайшем уровне, он испытывал острую, чистую радость от присутствия рядом Кейт, соседства их тел, которые то и дело сталкивались на ходу неуклюже, дружески, — и от сознания, скорее даже физического предощущения, что, когда они дойдут до буковой рощи, он поцелует Кейт.
А еще где-то, на далеко не низшем, хотя и наименее отчетливом уровне, было восприятие окружающего, участие, продолжение себя в природе, в плотных, скругленных кустах вероники, шарообразной кроне большелистой катальпы на краю сада, в блекло-розовых, нагретых солнцем кирпичах ограды, сквозь арку которой они сейчас проходили. Такие старые, истертые были эти кирпичи, так изрыты щербинами, сглажены по краям и углам, что выглядели естественным образованием из красных камней, которыми, похоже, вдоволь наигралось море. Все-то в Дорсете круглое, думал Дьюкейн. Круглятся пригорки и вот эти кирпичи, тисы, растущие в живой изгороди, кусты вероники и катальпа, круглятся кроны акаций и камушки на пляже, и купа молодого бамбука возле арки. Все в Дорсете, думал он, в точности нужного размера. Мысль эта наполняла его огромным удовлетворением, расходясь по прочим уровням и отсекам сознания потоком теплых, благотворных частиц. Так шагал он бок о бок с Кейт, неся с собою облако путаных мыслей, совокупное воздействие которых — самозащита и саморегуляция — есть признак душевного здоровья.
Они свернули на узкий проселок, где по высоким покатым обочинам, устланным длинным желтым мхом, иссохшим и выгоревшим на солнцепеке почти до полной утраты своей растительной сущности, цвели, пробиваясь наружу, крапива и кипрей. В воздухе застоялся густой, щекочущий ноздри запах — возможно, запах мха. Неподалеку в лесу слышался голос кукушки, внятный, однотонный, размеренный, пустой и бессмысленный. Кейт взяла Дьюкейна за руку.
— Я, наверное, не пойду с вами к Вилли, — сказала Кейт. — Он что-то хандрит в последнее время, и лучше будет, я уверена, вам с ним увидеться наедине. Не думаю, чтобы Вилли решился наложить на себя руки, — как по-вашему, Джон?
Вилли Кост имел обыкновение заявлять время от времени, что жизнь невыносимо тяжела и он намерен вскоре покончить с нею.
— Трудно сказать, — отозвался Дьюкейн.
Его не покидало ощущение, что он слишком мало сделал для Вилли. Большинство из тех, кто знал Вилли, разделяли это ощущение. Впрочем, он был человеком, которому не так-то просто помочь. С Вилли, специалистом по античной филологии, который жил на пенсию от правительства Германии и работал над изданием, посвященным Проперцию[6], Дьюкейн впервые встретился в Лондоне, на заседании, где выступал с сообщением о малоизвестном документе, трактующем понятие specificatio[7] в римском праве. Это ему принадлежала мысль вытащить Вилли из меблированной квартирки в Фулеме[8] и водворить в Трескоум-коттедж. Не раз с тех пор он спрашивал себя, не было ли это ошибкой. Суть замысла состояла в том, чтобы обеспечить другу надежность домашней обстановки. На деле же Вилли получил возможность жить в полном уединении.
— Думаю, если б он всерьез замышлял самоубийство, то не пускал бы так свободно к себе детей, — сказала Кейт.
В то время как взрослым зачастую ход в коттедж был заказан, детям дозволялось приходить и уходить, когда им вздумается.
— Да, это правда, пожалуй. Интересно, он что, работает, когда никого из нас не пускает к себе?
— Или просто сидит и терзается воспоминаниями. Подумать страшно…
— Никогда я не испытывал тяги покончить с собой, а вы, Кейт?
— Боже сохрани! Но я, правда, всегда жила в полное свое удовольствие!
— Таким, как мы, людям с нормальной, здоровой психикой, — сказал Дьюкейн, — трудно вообразить, что это такое, когда все у тебя в душе — лишь боль, все — ад.
— Вот именно. Что только ни вспоминается ему, должно быть, что только ни снится!
Вилли Кост всю войну провел в Дахау.
— Хорошо бы с ним Тео бывал почаще, — сказал Дьюкейн.
— Тео? Вот уж кто воистину трость надломленная![9] Он же сам — один сплошной комок нервов! Это вам хорошо бы почаще бывать с Вилли. Вы умеете говорить с людьми напрямик, сказать им, что делать. Другие, в большинстве своем, трусят.
— Звучит — не приведи Господь! — сказал, смеясь, Дьюкейн.
— Нет, серьезно. Я уверена, Вилли пошло бы на пользу, если б его просто вынудили рассказать, каково там было, в этом лагере. Он, по-моему, слова об этом никому не проронил.
— А я вот — не уверен, — сказал Дьюкейн. — Могу представить себе, чего бы это ему стоило!
Однако подобная мысль ему тоже приходила в голову.
— Надо жить в ладу со своим прошлым, — сказала Кейт.
— Когда перенесешь столько страданий и надругательств, как Вилли, — сказал Дьюкейн, — это может оказаться попросту невозможно.
— Что невозможно — простить?
— Какое там простить! Найти хотя бы приемлемый способ думать обо всем этом!
Дьюкейн нередко пытался вообразить себя на месте Вилли Коста — но тщетно.
— Я полагала, что Мэри растопит этот лед, — сказала Кейт. — Она, в сущности, знает его, как никто, — не считая вас то есть. Но она говорит, он с нею вовсе не касался этой темы.
Еще немного — и мы в лесу, проносилось в голове у Дьюкейна, еще совсем немного… На них упали уже первые тени, кукушка в некотором отдалении посылала им свой исступленный, свой сладострастный зов.
— Присядем на минутку, — сказала Кейт.
Здесь лежал ствол поваленного бука — чистый, пепельно-серый, с каскадом жухлых рыже-бурых съеженных листьев по обе стороны. Они сели, шелестя сухой листвой; повернулись лицом друг к другу.
Кейт, не спуская пристального взгляда с Дьюкейна, взяла его за плечи. Он погрузился в крапчатую, темную, затягивающую голубизну ее глаз. Оба, словно по уговору, вздохнули, и Кейт приникла к нему томительно долгим поцелуем. Дьюкейн закрыл глаза, отгораживаясь от нарастающего в поцелуе жара, и с силой прижал Кейт к себе, ощущая на щеке колючую печать ее пружинистых волос. Какое-то время они сидели неподвижно.
— Ох, как же мне с вами хорошо, — сказала Кейт.
— И мне с вами.
Он снова отстранил ее от себя, с улыбкой, с чувством облегчения и свободы, желая ее, но не мучительно, глядя, как у нее за спиной простирается меж деревьев бурая с зеленой подстилкой пустота, а наверху, просвечивая сквозь россыпи листвы, играет солнце.
— Смотрю на вас — вылитый герцог Веллингтонский! Обожаю этот седой хохолок прямо надо лбом… Джон, это ведь ничего?
— Да, — отвечал он без улыбки. — Да. Я много об этом думал и считаю, что ничего.
— Октавиан… Ну, вы знаете, как Октавиан смотрит на вещи. Вы все понимаете.
— Октавиан — очень счастливый человек.
— Да, верно. Октавиан — счастливый человек, и это существенно.
— Я знаю. Кейт, милая, я одинок. А у вас — щедрое сердце. И оба мы — люди рассудительные. Так что тут все в порядке.
— Я и не сомневалась, Джон, — просто хотела услышать это от вас, эти самые слова. Я так рада! Но вы уверены, что вам это не будет тяжело, больно в известном смысле?..
— Будет, не без того, — сказал он, — но с этой болью можно справиться. А сколько будет радости!
— Согласна. Разве жить безболезненно и в довольстве — предел мечтаний? Мы с вами можем столько дать друг другу! Любить — значит так много, правда? По-настоящему, только это одно и важно…
— Да, заходите, — сказал Вилли Кост.
Дьюкейн вошел.
Вилли Кост полулежал в низком кресле у камина, зарывшись каблуками в горку седой древесной золы. Позади него что-то в медленном темпе играл патефон. Патефон у Вилли, по впечатлению Дьюкейна, всегда играл что-нибудь медленное. Дьюкейну, немузыкальному до скрежета зубовного, самые сладостные созвучия мгновенно резали слух. Он шел к коттеджу взволнованный, в приподнятом настроении. Душевная гармония, рожденная сценой между ним и Кейт, полным взаимопониманием, достигнутым ими так быстро, позволила ему целиком сосредоточить свое внимание на проблеме, которую представлял собой Вилли. Музыка на фоне этого ощущалась как нечто чужеродное.
Вилли, зная, как действует музыка на Дьюкейна, встал, снял с пластинки звукосниматель и выключил патефон.
— Прошу прощения, Вилли.
— Да ладно, — сказал Вилли. — Вы садитесь. Будете что-нибудь? Чаю, может быть?
Он удалился, прихрамывая, в кухоньку, откуда до Дьюкейна донеслось сперва фырканье, а потом — ровное шипенье примуса. Единственную в коттедже общую комнату заполняли книги Вилли, одни — на полках, другие — все еще в коробках. Кейт, которая не мыслила себе жизни без обширного персонального пространства, на котором размещены предметы, всяк со своим особым назначением, постоянно сетовала, что Вилли никак не удосужится разобрать свои вещи. И не простила ему того, как его передернуло, когда она вызвалась сделать это за него.