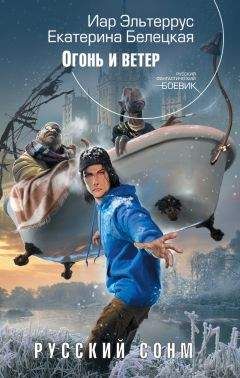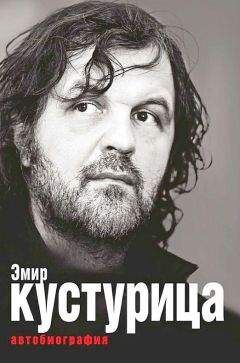Экранный самолёт уже накренился, будучи на полпути меж Гренландией (остров, вызывающий у меня привкус постных лепёшек) и Америкой, причём загадочные заполярные земли чудом пропали с мониторов, словно лайнер стёр их, воспользовавшись забытьём Алексея Петровича, который, отмахиваясь от предлагаемых яств, всё занимался делом наинеблагодарнейшим — увековечиванием грёз, словно именно его весенняя летаргия и была наиважнейшим событием Третьего Тысячелетия, когда он сам, хлынувши кровью да заёрзавши хвостиком, усвоил суть Христова поклона Деметре, — жертвоприношения в самый ротик изголодавшейся Богини целого поросячьего стадца за века палестинского нечестия! — где уж тут уследить за приближением к континенту да обращать внимание на подмигнувший стаканчик томатного сока, откуда айсберг поначалу выставил свой кукиш, сгинувший постепенно, постигнувши собственную непристойность. И верно, алкоголя — этой смазки священнодействия — больше не хотелось: сакральный акт свершился — неуёмный детородный сгусток зашевелился, чуть ли не крича о своём пробуждении. Алексей Петрович почуял всю его кряжистую могуту: корневище его молило о свободе, стонало о праве на непарность, жаждало прыснуть ядом, затопивши лупоглазие в общем-то прекрасно чувствующей себя коленопреклонённой особи женского пола (сойдёт хотя бы та, веснушчатая!), — когда дело доходило до совокупления, Алексей Петрович утеревал всяческую брезгливость, легкомысленно избирая резервуар для выплёскивания сладострастия, за что не раз приходилось ему расплачиваться, как жертве пост-социалистического подвида романтизма, — чего бы никогда не случилось, прими он сторону лакомых лаконских нравов.
Алексей Петрович протёр волосиками тыльной стороны ладони глаз и сложил вчетверо, словно гетманскую грамоту, лист, — ресничка исхитрилась угодить на самый бумажный сгиб, оставшись там погребённой. Тотчас всё задрожало, с гулом и скрежетом, так что бежевая вязальщица кольнула спицей верхнюю жировую складку живота, и петельный ряд плавно испарился, чем вызвал исчезновение веснушек под яростной суриковой волной да краткую Электрову бурю — точно пришёл момент расплаты за батюшкину черепную коробку (Божество, оккупировавшее Алексея Петровича, с сомнением покачало головой); китаец вперил взор в экран, — надеясь, видимо, найти спасение в горизонтальной устойчивости виртуального самолёта, достигнувшего-таки косматого Ньюфаундленда, — и почему-то принялся стягивать свои остроконечные тапочки, снова показавши кант штанин, и отворачиваясь от иллюминатора, в котором облако mauve отливалось в форму Царь-колокола, — отчего глянцевая кожа китайца запестрелась вкруг глаз фасцией фиолетовых лучиков. Брошюрка прогрессистского прихода Св. Протея, поддетая его локтем, шмякнулась об стол Алексея Петровича, всхлипнула страницами, жёлтыми от ностальгии по Ватиканскому Собору шестидесятников, замерла на разделе «Santé» (между гороскопом и пароксизмом крюцевербизма парижского редактора), где, с точки зрения игловкалывания, доказывалось благотворное акупунктурное воздействие тфилина на шуйцу со скальпом — причём явно отдавалось предпочтение сфарадской манере, — а неряшливо срубленная, и в профиль представленная голова, принадлежала пациенту неоспоримо арийского происхождения. Алексей Петрович замечал всё это и, чуждый страха внезапной гибели, с нескудеющим любопытством выискивал взором потенциальных пиратов вовсю воющего лайнера; хохот разрастался в нём, сдерживаемый плотиной, точно дамбы его души стали эластичными, — но вот, прорвалось, чуть ли не мефистофелевым басом, бесовскими раскатами хлынуло по бледнеющим от ошеломления лицам (словно его смех запорашивал их порошковым молоком), столь неистово перекрывши скрежет бастовавшего мотора, что из-за занавеса выскочила давешняя стюардесса, утерявши кукольный лоск своей картезианской причёски. Алексей Петрович в смущении короновал себя наушниковым обручем: не тфилин! — но все мускулы челюсти, до самых желваков перекошенной незабвенным маваши-гери, были им прочувствованы.
Чайковский поднапрягся, щёлкнул и перелился в Вагнера, пока трясшийся самолёт нагонял струившуюся чёрную, с белым пятном на лбу — пешехонской (есть в ней что-то от босяка Горького) масти, значит, — тучу. Капитан лайнера извинялся на трёх языках: по-английски с кастильским произношением, на бразильском португальском, по-французски с акцентом Цинциннати, куда на экране явно нацелилась его машина. И Алексей Петрович, мотая головой в ритме воинственных дев, мгновенно превратился в изрядно приложившегося к ритону Штауфенберга, — по-роммелеву, из одного себя соорудивши think tank, и не теряя надежды на катастрофу, грянувшую тут же, когда изабеловой шерстью поросший живот тучи внезапно озарился платиновой аркой с шероховатым сиреневым исподом, отчего вся иппическая громада вдруг посерела, ловко угодивши перунно-рунической канонадой в самый пик феноменального галопа — причём каждая ворсинка казалась изысканно очерчена, — а после, долго, неохотно, будто замазывая на колене подвергнувшийся остракизму цвет, возвращалась в искомое состояние, замешкавшись, впрочем, на азуритовой стадии.
Азиатец, перекрестившись, взялся обеими руками, как за штурвал, за брошюру, тотчас изменившую окраску с серо-серебряной на светло-салатовую: «Неужто Бог тоже художник?», — поинтересовался Бог, сидевший в Алексее Петровиче, поведя золотым бедром, будто исполнял эммелию, вызвавшую, до самого хребта Алексея Петровича, остервенение ознобового вала, медленно отхлынувшего, растёкшись по лопаткам мутно-нефритовой пеной.
Самолёт вовсе обезумел. Добрый старый пан Вагнер, даже с костылём своей мадьяроскулой Эрато да позаимствованным на боярской свадьбе Иванова лебедем, ввек бы не воспроизвёл этакую нордическую вакханалию: подчас, вослед триумфальному сполоху ухало чудовищно, точно тарантас-исполин, груженный Шенье, Гумилёвым, Кеплером (этой филолаевой реинкарнацией), Мандельштамом да прочими ливриподобными отроками, громыхал по ещё неразобранной на баррикады брусчатке, — и каждый булыжник, отёсанный в идеальный параллелепипед, словно для выемки в давидовой фронде, инстинктивно, всею своею формой, восставал на месиво букв «Декларации человечьих прав». А иногда дивно невинное небо проглядывало, раскидывалось князеандреево, лупоглазо, — однако, постепенно, по мере наплыва туч с северо-востока, дионисея, и окончательно свихнувшись, разражалось секировым сверканием, бунило, булгачило. И лишь когда боинговый командир, — вовсе скомкавши латиноамериканским говорком французскую версию оракула, — объявил о срочной посадке в Детройте, лайнер выскочил из туч, и над ним, через весь небосвод, от края до края, прошлось полнимба — послегрозовая радуга, радость Ириды: «l’aridité déridée!», — прорезалась, будто воплем «Ma foi, voilà Alexeï Petrovitch!», его галло-хоровая, вся как есть со двора регента сущность! Впрочем, секрета — в какого Бога была эта «foi»? — не выдаст ни единый ломтик титановой печёнки!
Алексей Петрович чуял восхищение каждой пляшущей клеткой своего тела этим вдохновением, — для коего он припас недостаточно чернил с бумагой: поэт — вечная жертва конспираторши-инспирации. С потолка обрушились и, будто измываясь над сидящим человечеством, заплясали на резинках полупрозрачные жёлтые кислородные маски, — точно недозрелые до нереста колоссальные трупы царевен-лягушек! — в них тотчас вцепились сотни разноцветных пальцев, хоть воздуха было и предовольно: запертый где-то в самолётных застенках, кондиционер выдувал струю из-под каждого иллюминатора с урчанием отобедавшего Минотавра, а напротив грациозная блондинка с восхитительными жеребячьими очами орловской породы вытянула, вовсе запамятавши о маске, десницу, преграждая путь струе, точно Эдда-итальяночка, приветствующая всасываемого Землёй отца, — а Бенито тут же и благословлял Алексея Петровича, пытавшегося свернуться калачиком, позой попридержав элизейское видение. Остальные попутчики натянули маски и застыли, трепетными ноздрями втягивая воздух, ставши оттого схожими со скотом гуигнгнов, — как в самых давних — первых своих брезгливых грёзах — воображал их себе Алексей Петрович.
Стюардесса, кресла будучи лишённая, прилипла, полусогнувши задние конечности, к кислородной струе, кося глазом, будто Персей присел на крыло и, подмигнувши ей в иллюминатор, оголил трофей. За бортом зашипело. Алексей Петрович переглянулся со своей vis-à-vis, вызвавши искристую вспышку её очей, и расхохотался, чуть ли не дискантом, не спуская взора с ускоренно-райского вызревания женских щёк.
Лайнер, опустивши нос долу, резко пошёл на посадку, хоть его экранный двойник с уверенностью продолжал путь на юго-запад. Внизу, раскинувшись вдоль берега серпом, Детройт отражал предвечернее Солнце, бившее Алексею Петровичу своими жёлтыми лучами прямо в скулы. Город полумесяцем вспарывал фарфоровую гладь, — слева тронутую завитушками замысловатых приозёрных строений, — справа — вовсе девственную, и лишь странный, почти струящийся по водам парусник, полный, сдавалось, четвероногих мореходов, покидал порт, да подле светонитяного монстра, точно приветствуя Алексея Петровича, ало сияло огромными литерами «Yacht». Самолёт, трясясь словно в приступе эрготизма, ринулся в самую гущу Детройта, так и метя туда, где дымился чудовищный фабричный кратер. Китаец застонал, как мулла с минарета, закрыл глаза безволосой своей ладонью: татуированная рыбка, судя по окраске чешуи, издыхала. Разноязыкий вой с арабо-турецкой доминантой перекрывал моторные муки, а рассыпавший все бывшие у него в пятнистом подоле непечатные слова стюарт медленно съехал на коврик, вибрируя одноритменной со стеной дрожью, и прижавши к рылообразной середине своего лица маску, тщился изловить увильнувшую от него щиколотку Алексея Петровича, уже совсем развесёлого, нащупывающего ворсистый обрубок своей американской поэмы, отталкиваясь, будто от назойливой стюардовой шуйцы, от липнувшей мелодии американского гимна, претерпевшего любопытную диффузию с функционерской молитвой Жуковского, кою Алексей Петрович тотчас похерил, заменивши её пушкинской, провидческой, стоящей пяти динамитных премий по физике (вот бы он возрадовался, картёжник!) — там, где про сатурново кольцо над недвижимой перед родами девицей-Земелькой: Детройт был её клитором, отходившие воды солянели, а сам Алексей Петрович завис, сидючи в своей горизонтальной калоше над серповидной цитаделью, которая тотчас и раскрылась перед плюхнувшимся на пылящийся асфальт «боингом».
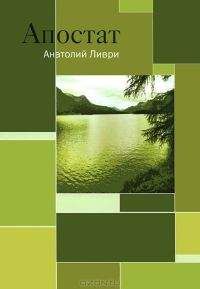
![Анатолий Ливри - Ecce homo[рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/116286/116286.jpg)