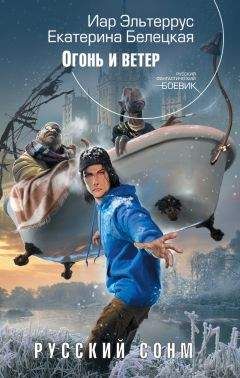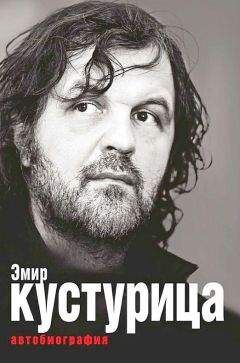Лайнер, опустивши нос долу, резко пошёл на посадку, хоть его экранный двойник с уверенностью продолжал путь на юго-запад. Внизу, раскинувшись вдоль берега серпом, Детройт отражал предвечернее Солнце, бившее Алексею Петровичу своими жёлтыми лучами прямо в скулы. Город полумесяцем вспарывал фарфоровую гладь, — слева тронутую завитушками замысловатых приозёрных строений, — справа — вовсе девственную, и лишь странный, почти струящийся по водам парусник, полный, сдавалось, четвероногих мореходов, покидал порт, да подле светонитяного монстра, точно приветствуя Алексея Петровича, ало сияло огромными литерами «Yacht». Самолёт, трясясь словно в приступе эрготизма, ринулся в самую гущу Детройта, так и метя туда, где дымился чудовищный фабричный кратер. Китаец застонал, как мулла с минарета, закрыл глаза безволосой своей ладонью: татуированная рыбка, судя по окраске чешуи, издыхала. Разноязыкий вой с арабо-турецкой доминантой перекрывал моторные муки, а рассыпавший все бывшие у него в пятнистом подоле непечатные слова стюарт медленно съехал на коврик, вибрируя одноритменной со стеной дрожью, и прижавши к рылообразной середине своего лица маску, тщился изловить увильнувшую от него щиколотку Алексея Петровича, уже совсем развесёлого, нащупывающего ворсистый обрубок своей американской поэмы, отталкиваясь, будто от назойливой стюардовой шуйцы, от липнувшей мелодии американского гимна, претерпевшего любопытную диффузию с функционерской молитвой Жуковского, кою Алексей Петрович тотчас похерил, заменивши её пушкинской, провидческой, стоящей пяти динамитных премий по физике (вот бы он возрадовался, картёжник!) — там, где про сатурново кольцо над недвижимой перед родами девицей-Земелькой: Детройт был её клитором, отходившие воды солянели, а сам Алексей Петрович завис, сидючи в своей горизонтальной калоше над серповидной цитаделью, которая тотчас и раскрылась перед плюхнувшимся на пылящийся асфальт «боингом».
— Го-о-ого-о-о-о-о, — заверещали попутчики, а кругляшок от Ladurée выкатился из-под занавеси — прямо в промежность стюарда и обрушился там своим лунным боком кверху когда лайнер оцепенел. Китаец откинулся на спинку кресла, воздевши колени выше головы. Рыбка зазолотилась. Позволительно было требовать столбового дворянства — этого проникновения мещанства стоическим любомудрием Северов с Севера. Алексей Петрович начал с того, что откусил от шнура маску — как в отрочестве обрывал плоды соседских садов, — сунувши её в карман: первым его деянием на американском континенте стало воровство! И вовсе не потому, что новосветская маска эта была ему необходима, а так, — суверенное требование сувенира.
Всё как-то чрезвычайно скоро успокоилось: стюарды приняли тот достойный вид, присущий в современном обществе строптивой челяди, не теряющей, однако, надежды угодить в класс лакейской аристократии; девочки улеглись, каждая спиной к соседке, и теперь посапывали, лишь одна, рыжеволосая, очевидно уже согрешившая делом (не избавившим её от акне), стонала во сне, хмуря редкие пегие брови; китаец подбоченился, вдавивши правый кулак в арманивую талию (оголив за пазухой и «G» и «A») с видом: мол, мне сам чёрт не брат, — и Алексей Петрович посторонившись, с присущим ему ознобцем, локотного острия азиата, перепрятал маску в ворох грязного белья, возложил Илиаду на живот, точно разделивши Пелидово презрение к Аяксовому хара-кири, отгораживался от скверны Гомером.
За стеклом, идеализирующим глянец американского асфальта, жирнющая, чернокожая (истинно чернокожая!), но с сальными ляжками абиссально-камбалового отлива, бабища в драных вельветовых шортах и в заокеанской разновидности валенок до колен, накручивала на стальной обруч шланг багровых тонов, пиная его подчас — словно мало ей было мук колесования, — с барабанным гулом, отчего звенели медные трещётки шлангового хвоста. Целая шайка негров различных оттенков, но также разгильдяйски одетых, бешено шуровала в чреве самолёта, — поминутно оказываясь в поле зрения, влача обрывки машинных внутренностей. И от этого негритянского присутствия веяло родным, умиротворяющим, хоть не республиканским, с Марьянновых бульваров: царедворец Мидаса (червонный чуб — память о монаршем безумии), добравшись до Карнака, видит в нубийском крепостном частицу плясуна-космоса — чует косматого обожателя слёз, впряжённого в кортеж, в коем и ему самому некогда привелось пересечь Азию. Американские нубийцы отличались сварливой наглостью, горластостью, и все как один, кощунствуя, носили пскент под зелёным фригийским колпаком, а их патлатый шеф в выцветшей майке с жёлтой надписью Lemba, без устали покрикивая на них да кивая головой, силился закурить на ветру (пока не растранжирил все до одной спички), точно усидчиво вразумлял несогласное пламя.
Тем временем пассажирам первого класса раздавали яства полевой кухни: через занавеску слышался запах жареного ягнёнка, от которого влажно сводило челюсти до самых ушей. Веснушчатая дама наморщив середину лица, чихнула, тотчас проснувшись (ковбой перед ней, полуобернувшись, вытер ладонью лысину, сверкнул печаткой, насадивши на макушку боливар), и выдернула, ухвативши его меж перстом и большим пальцем, длиннющий коричневый волос из ноздри. Алексей Петрович поднялся, изобразил из себя Флинтов компас, зычно щёлкнул суставами плеч, — точно лопнули две тетивы, — прошёлся по коридору, вытягивая пуанты, как разогревающаяся балерина, заглянул, борясь с нешуточным уже приступом голода, за покров. Прямо перед ним, воздевши оба сжатые колена, устроился немец, с немецким же плоским теменем, немецким абрикосовым носом и с немецкой неразвитостью сухопарых конечностей. Немецким своим пальцем, венчанным грубо отёсанным ногтем, он, пособляя себе шевелением губ и шевелюры, водил — настырнее Эдипа, шарившего в поисках лапки Антигоны, отлучившейся примерить поясок белого льна, — по одной из головоломок, сгруженных в задворки цюрихского «Ежедневного Стукача» (прямо под сплетней о межозёрном кроссе «Баар — Рихтерсвиль», — да «Меннедорф — Фрауэнфельд» для увечных в колясках): каждая из дюжины красночернильных попыток выбраться из лабиринта упиралась в тупик, и не потому вовсе, что редакционный Дедалус был крут, — просто послевоенный, на целый розовый век ошпаренный ужасом бойни швабский разум не поспевал даже за гельветской загадкой. «…в Америке…», — тут Алексей Петрович почесал, сведя три пальца, над губой — «где некогда был Бог… бог?… нет именно Бог! Да… Отросло. Скоро. Если тут налево. Страннейший странник. Иностранец. Мы, stranieri, или, как нас кличут в Сильсе, — «esters»!!! Грудаста мать Вандома, домна Ван Домуха да Гелиогабала кабала! Тик семантика. Ещё налево. Нет, стихнул стих. Зато вот он, exit,» — Алексей Петрович нащупал взором спасительный коридор и, посторонившись замычавшего за спиною стюарда, хмыкнул презрительно.
Ранее, лет двадцать назад, с пронзительной скукой и отвращением вырываясь из отрочества, Алексей Петрович видел в швабах эдаких экс-запретно-зверских созданий, сверстников Минотаврова фрыштика: вот-вот развернутся да шуранут (как возвратившаяся из Египта широкорукавная спартаночка царевна-ranucula, внезапно анахронически объемлемая эмбатерием) автоматной очередью, — точно подчиняясь законам древних, покамест неведанных телес, окатят вдруг неразбавленной винной струёй, до самого сердца разъедающей плоть планеты. Восхищение недругом, некогда попытавшимся растопить себе дорогу в Индию чрез рифейские льды, российские торосы!
Голод сгинул, будто промахнувшийся по лани хищник, из тех, что бьёт лишь единожды, и затаился, пристыженный, неловкий, уступивши место слезам: они всегда нависали, незаметные, на угловых ресничках, готовые плеснуть, по-звериному выбирая для сего самый дрянной момент ломоносовской далековатости! — иной раз делая утренние исключения для Бога, когда кисть порхает над бумагой, уворачиваясь от жаркой капели, успевая, однако, запечатлевать тайны, вынюханные за ночь. Вот и нынче Алексей Петрович слёзы-то скрыл, медленно вернувшись вспять, заприметивши, как парой рядов подале, в пятой кресельной колонне считая справа, дед-дроздоголов с обнажённой розовой лысиной, рассечённой седовласым утёсом, и с пирамидально выступающим шматом рубахи на боку, извлёк из портфельчика пару рыжих гибралтарских яблок (тот самый сорт с некогда учуянным — целыми годами эмиграции выслеживаемым и, вот, наконец, по приезде в Бургундию затравленным, — сырым антоновским привкусом) да избавился от них, кинувши их в помойное ведёрко кофейной тележки — как от чуждых, европейских: «Я бы слопал, чавкая, — инда поперхнувшись, — а ещё лучше, протащил бы их контрабандой через владения вихрастых атлантов! В самую Америку, ужасающуюся, оказывается, кулинарного теракта лотофагов!»
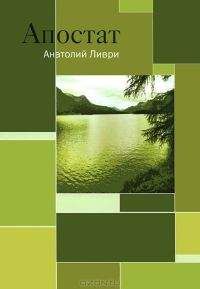
![Анатолий Ливри - Ecce homo[рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/116286/116286.jpg)