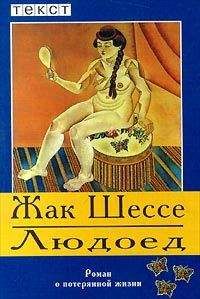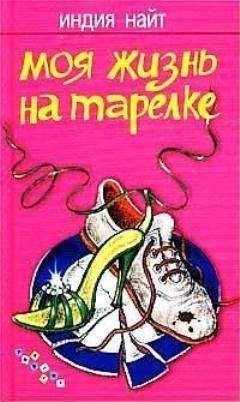В гробовой тишине пролетело несколько мгновений. Потом Жан Кальме отступил на шаг и прикрыл дверь. У него кружилась голова. Секунда. Две секунды.
— Дерьмо! — взревел доктор за дверью.
Жан Кальме бросился наверх, заперся в своей комнате и рухнул на стул. С тех пор прошло двадцать лет. Ему тогда было девятнадцать, и он должен был перейти на второй семестр филологического факультета. Двадцать лет… а стыд, печаль и чувство унижения до сих пор так и не угасли. Он вспоминал, как недвижно скорчился тогда на стуле, не в силах говорить или плакать. Лилиана… обнаженная, в ослепительном солнечном свете. И его отец, красный, хрипящий, гневный. И он сам, раздавленный душевной болью. Но почему, почему Лилиана так легко уступила этому мерзавцу? Этого он никогда не узнал. Он встретил ее несколько дней спустя и на сей раз не осмелился улизнуть. Они прошли метров сто по берегу озера.
Жан Кальме был натянут, как струна. Наконец он спросил:
— Лилиана , ты спала с ним?
До сих пор у него в ушах звучит вульгарный тон ее ответа:
— Ну еще бы, он же меня и распечатал. Когда-нибудь это должно было случиться, верно?
Он любил ее. Ей было семнадцать лет. Ему девятнадцать. И вот теперь она женщина.
А он остался девственником, раненным в самое сердце, запуганным и даже не находившим слов, чтобы хоть как-то выразить свое отчаяние. И в то же время он с новым, острым любопытством разглядывал ее — сочный рот с крупными зубами, кудрявая прядь над большими смелыми глазами, бронзовая шея в вырезе блузки, где тяжело колыхалась грудь… За ее спиной, в озере, ослепительно сверкало вечернее солнце, пунцовые облака в золотой кромке повисли над водой, белые катерки распускали веера пены вдали, у зеленых склонов Савойи.
Кто же вершит наши судьбы? Кто торжествует посреди красоты этого мира? Отчего ему суждено испить горький яд тоски в праздничном сиянии этого заката? Лилиана была женщиной, и доктор был ее любовником. Его родной отец. Жан Кальме вонзил ногти в ладони. Его родной отец впивался поцелуем в этот рот. Вдыхал аромат этой шеи. Тискал эти груди с розовыми сосками. Раскидывал эти загорелые ноги. Внедрялся в это лоно. Хозяин взял свое.
Поимел. И это продолжалось. И все склонялись перед ним. Все уступали. Он был здесь царь и бог. Он питался их поклонением. И он возжелал эту свежую плоть как естественную дань своему могуществу. Эта девочка принадлежала ему. Она изгибалась в его объятиях. Она стонала в тисках его рук, задыхалась под напором его несокрушимой силы. Он был Отец, он был Хозяин. Он вершил закон! Пятьдесят восемь лет. И семнадцать. А закон… Однако Жан Кальме тотчас отбросил мысль о каре за совращение несовершеннолетней: доктор не развращал, не соблазнял эту девушку. Он просто использовал свое право. И кто посмел бы остановить его?! Жан и сам покорялся этой властной силе, стыдясь своей покорности, проклиная ее, но все-таки склоняясь перед могуществом отца… Да, чудесный вечер. Зеленая Савойя, небо, отразившееся в расплавленном золоте озера, а здесь, перед ним, Лилиана, которая теперь глядит на него с какой-то непонятной нежностью, как будто все еще возможно, как будто их встречи могут начаться вновь. Как будто сын после отца, в свой черед, мог броситься на эту добычу, на это свежее мясо. Жану Кальме тотчас стало больно от этого мерзкого слова. Мясо… Кто мог произносить такие отвратительные вещи? Ну, разумеется, отец, он же помнил, как доктор бесцеремонно ощупывал чужие тела, месил дряблую плоть по утрам, в затхлых тесных квартирках, выйдя из громыхающего лифта или поднявшись по черной лестнице; а бедняги униженно, слезно молили повелителя дать им пожить еще чуточку. И в этот момент Жана Кальме постигло нечто вроде озарения, догадки, столь же непреложной, как его одиночество: они, пациенты, тоже любили отца. Они его почитали на свой, особый лад. Доктор ведь был щедр. Он целиком посвящал себя больным. Прибегал к ним по первому зову. Вдумчиво изучал симптомы. Боролся за более выгодные медицинские страховки. Помогал организовать похороны. Следовал за гробом усопшего. Произносил речь у могилы. Он нес к их затхлым постелям шум жизни, веселье жизни, все пестрое разнообразие жизни, бурлящей за окнами. И Лилиана тоже сдалась перед этим всесокрушающим обаянием жизненной силы доктора. Куда уж там Жану, этому хилому карлику! Лилиана, с ее нежным и страстным, с ее непонятным естеством… Отец-чернорабочий. Мать-чернорабочая. Куча братьев и сестер в одной комнате с нею. И какое будущее ее ждало? Что ей дал бы союз с запуганным студентом-невротиком?
Теперь Жан Кальме смотрел на Лилиану с ласковым сочувствием. Они стали братом и сестрой — эта милая, податливая душа и он. Они претерпели одинаковое грязное насилие. Со стороны тирана. Но разве невозможно выплыть на поверхность, вновь найти друг друга, разорвать этот адский круг? Когда-нибудь избавление придет и к ним. Доктор умрет. И обретет свое истинное царствие. Но царствие мое не в мире сем. Жан Кальме внезапно испытал незнакомое доселе чувство освобождения, легкости, открытости; гнев его бесследно испарился. Ревновал ли он?
Нет, ревностью ему суждено будет упиваться позже, он знал это. А пока он упрятывал ее в глубь памяти, как застарелый страх. Небо из багряного становилось золотисто-пепельным.
Озеро сменило цвет расплавленной бронзы на мягкий янтарный. Франция, на другом берегу, принимала красновато-коричневые оттенки осени, палой листвы, беличьей шубки. Из стоков бухты Лютри поднимался тошнотворно-сладковатый и странно умиротворяющий запах рыбы.
К берегу подходила лодка. На причале суетились люди. Объявить войну? Девушка с сочным, соблазнительным телом беспокойно заглядывала ему в глаза:
— Послушай, Жан, рано или поздно это должно было…
У него не хватило терпения дождаться конца фразы. Отвернувшись, он побежал прочь со всех ног; он мчался по сыпучему гравию дамбы, в сандалиях у него скрипел песок — последнее напоминание об ушедшем лете. Лилиана! Лето! И Жан Кальме бросился, как безумный, в теплый вечерний туман.
Вот о чем он вспоминал, сидя за большим столом с множеством книг и карточек, в самом сердце этой населенной призраками ночи. Он провел рукой по шее: отросшая щетина уже колола пальцы. Как на лице у трупа… Эх ты, Жан Кальме, бедолага! А впрочем, все хорошо. Он встал, тщательно проверил задвижки на дверях и окнах, выключил электричество, почистил зубы, побрился, принял душ и снова подошел к книжным полкам. Открыл томик Бодлера, изданный в «Плеядах», захлопнул его, выпил стакан «Контрексевиля», найдя его безвкусным, как сама жизнь, снова достал Бодлера, полистал его и нашел фотографию студии Надара, где саркастически сжатые губы поэта таили в себе безжалостную насмешку; продекламировал два стиха из «Осенней песни», вздрогнул, погасил лампу, проветрил комнату в темноте и услышал, как две или три машины с грохотом промчались мимо дурацких садов, где дурацкие животные, вроде того ежа, и такие же ничтожные, как он сам, ловили последние частицы кислорода в сыром городском воздухе.
* * *
Церемония захоронения праха состоялась в пятницу 20 октября, в середине дня. Осеннее солнце расцвечивало кладбище желтоватыми бликами, и лиловые пучки вереска выглядели на этом фоне грязноватыми пятнами, напоминавшими мазки засохшей крови на кремовых простынях. Жан Кальме встретился с матерью перед крематорием; она стояла в своем черном каракулевом манто, бледная, поникшая, в окружении его братьев и сестер. Ровно в четыре часа представитель похоронного бюро, с черной шляпой в руке, повел их по центральной аллее, заставленной крестами и вычурными памятниками; на пороге часовни их поджидал служащий крематория, также весь в черном с головы до ног.
Оба они отдали поклон вдове, пожали ей руку и со скорбным видом поздоровались с детьми.
— У вас ниша номер сто пятьдесят семь, — сказал служащий. — Урна установлена сегодня утром. Согласно обычаю, прах был помещен туда в отсутствие семьи. Разумеется, вы можете увидеть ее тотчас же. Благоволите следовать за мной…
Маленькая процессия двинулась по кладбищенским аллеям, взобралась по лестнице, обсаженной буксом, свернула, прошла между могилами и кустами и, наконец, очутилась перед колумбарием, чьи решетчатые двери были открыты настежь.
— Прошу вас, входите, мадам, — сказал служащий, указывая своей черной шляпой путь в сводчатом коридоре.
Этьен взял мать под руку, и все вошли в небольшой зал. Дневной свет скупо сочился внутрь сквозь крошечные узкие оконца под сводчатым потолком. Жан Кальме огляделся: все стены были разделены на сотни пронумерованных ниш с трудно определимой глубиной. Одна из них, на высоте человеческого роста, была задернута черной занавесочкой с серебряной каймой; над ней стоял номер 157, и члены семьи указывали ее друг другу, кто взглядом, кто пальцем. Затем установилось молчание, все замерли. Оба служителя встали у стены с означенной нишей. Первый с мягкой скорбью еще раз выразил соболезнования семье от имени похоронного бюро. Затем он вынул из кармана бумагу, прочитал вслух муниципальные правила хранения праха в колумбарии и, сложив листок, отступил на шаг с видом печального смирения.