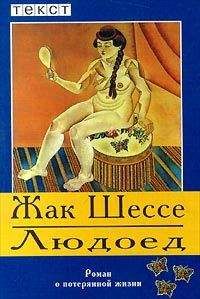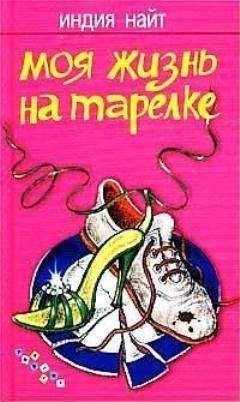— Причешите, пожалуйста! — сказал он.
Месье Лехти старательно расчесал волосы Жана Кальме. Процедура завершилась.
Жан Кальме расплатился, пожал руку месье Лехти и на миг задержался у порога салона.
Воздух был свеж, послеполуденное солнце золотило дома старинной улочки, сентябрь близился к концу… Жан Кальме вдохнул полной грудью и пошел бродить мимо лавок, заглядываясь на витрины. Он все еще смаковал недавнее удовольствие, им владела блаженная расслабленность и какая-то особая радость; всем своим существом он стремился быть узнанным, быть любимым, быть сильным и всемогущим. И Жан Кальме глядел на прохожих с новой уверенностью, безбоязненно изучая их лица и одежду, оценивая походку, любуясь женщинами, особенно женскими глазами — дивясь их разнообразию, их прелести, огоньку, играющему в зрачках. Многие из них отвечали Жану Кальме взглядом, который обжигал до мозга костей.
Значит, и он может быть счастлив, он тоже? Значит, и он может представлять для кого-то интерес, быть замеченным, выделенным женщиной среди безликой толпы? Неужели так бывает? Ему чудилось, будто одна из них, самая смелая, завлекает его с притворно безразличным видом, будто продавщицы в лавках, встречаясь с ним взглядом, не сразу отворачиваются.
И Жан Кальме, приостанавливаясь, со вкусом изучал их жесты, цвет волос и оттенки кожи, угадывал желания и разочарования, планировал встречи, мысленно распутывал интриги, воображал тайные сношения — интеллектуальные и сластолюбивые, длинный осенний нежнодоверительный роман.
Он никуда не спешил. Завтрашний урок был уже подготовлен, и мысль об этом дала ему второй повод к радости. В честь «Метаморфоз» он наградил именами Фотис и Психея пару загорелых белокурых двойняшек, выходивших из магазина с большими пестрыми пакетами.
Затем он купил и съел прямо на улице хот-дог и зашел выпить кружку пива в кафе «У моста», откуда долго еще созерцал толпу у дверей универмага.
Зажигались фонари.
Теплый сентябрьский вечер окружал людей и предметы зыбким розоватым ореолом.
Но в тот миг, когда Жан Кальме вышел на маленькую площадь Палюд, он пошатнулся, и ему пришлось привалиться к стене, чтобы не упасть: там, на другой стороне площади, спокойной поступью шел его отец. Его отец! Горячий пот прошиб Жана Кальме, он судорожно впился ногтями в стену ратуши. Вытаращив глаза, он с ужасом следил за призраком: никаких сомнений, это был доктор, собственной персоной. Тяжелый уверенный шаг, коренастая фигура, багровый саркастический профиль под шляпой набекрень. Призрак остановился перед кафе, протянул руку к двери… Потрясенный Жан Кальме провел рукой по лбу, с которого струился пот. Мысли его путались, он дрожал, он задыхался, видя этот кошмарный замедленный фильм на другой стороне площади: его отец, входящий в кафе, страшный грузный силуэт, скрывшийся в вестибюле, и затворенная дверь!
Он пришел в себя, ощутив острый холод, пронзивший его с головы до ног. Мимо проехал грузовик с прицепом, он на миг заслонил кафе, где призрак теперь, наверное, пил белое вино, держа в руке дымящуюся сигару и положив шляпу перед собой, на стол. С внезапной решимостью Жан Кальме бегом пересек площадь и ворвался в кафе «Виноградник»: никакого доктора там не было. Четверо или пятеро одиночек попивали вино, а в глубине зала, под стенными часами, сидел краснолицый толстяк, ссутулившись и устало глядя в пространство… Неужто он принял за отца этого человека? Не может быть! Ведь всего пару минут назад Жан Кальме явственно видел доктора, медленно шагавшего по мощеному тротуару. Он признал его профиль, его тяжелую походку, шляпу, сдвинутую набок, мешковатые брюки, а главное, исходящую от него грубую властную силу… Жан Кальме пошел домой. Теперь его страх сменился острой жалостью: отец умер, но вернулся к живым, как неприкаянная душа, — не оттого ли, что он был несчастлив, что его терзали тоска и отчаяние? Но кто поможет ему? И о какой помощи взывал он из своего небытия? Жан Кальме гадливо содрогнулся. Так, значит, ему никогда не суждено обрести душевный покой? Сырая мерзость осени тяжким гнетом навалилась на него.
Дрожа, он заперся в своем углу и наглотался снотворных, чтобы уснуть покрепче.
* * *
На следующий день отвращение мучило его по-прежнему. Проведя занятия, Жан Кальме пришел домой и сел отвечать на многочисленные письма с соболезнованиями, которые вот уже неделю стыли на его бюро. "… Глубоко тронут вашим сочувствием… благодарю за ваше участие… " Он бездумно, машинально выстраивал дежурные фразы, представляя себе при этом лица адресатов — коллег, бывших учеников, товарищей по университету: между ним и его письмом вставала целая вереница иронических судей, с усмешкой оценивающих убогие клише по мере того, как те ложились на бумагу. Более того, страх и сомнения одолевали его все сильнее, пока он вскрывал конверты с траурной каймой, читал грустные послания и отвечал на них. Он благодарил людей, написавших ему по случаю кончины отца. Но тот призрак — вчера, на площади Палюд… Впрямь ли доктор был мертв? Все утро Жан Кальме ругал себя за дурацкую веру в привидения. Просто он тогда размяк, поддался глупой, обманчивой надежде на счастье, за что судьба и наказала его тем страшным призраком, той нелепой галлюцинацией. На языке остался горький привкус снотворных, на сердце — тяжкие угрызения совести, чувство вины, не затихавшее все утро, и он твердо решил не поддаваться больше своим фантазиям. Доктор, бродящий по городу, — какая чушь! Только такой психопат и слабак, как он, мог запаниковать от смутного сходства какого-то прохожего с отцом. Жан Кальме ругал себя последними словами. Но к вечеру ему опять стало казаться, что все не так-то просто. Унылое беспокойство точило его душу. "… С тех пор как Ваш отец скончался, мой дорогой Жан… " Гневно отшвырнув последнее письмо, он достал из портфеля медицинский трактат, который нынче, убедившись, что его никто не видит, тайком унес из гимназической библиотеки.
Он открыл его на странице 215 и с пристальным вниманием перечел статью, которую ранее наспех пробежал глазами среди библиотечных полок. Она носила заголовок «Признаки смерти». Теперь Жан Кальме изучал каждое слово:
"Помимо остановки дыхания, имеются следующие признаки смерти:
1. Отсутствие сердцебиения.
2. Отсутствие глазных рефлексов, помутнение зрачков.
3. Снижение температуры тела; при температуре ниже 20 градусов смерть очевидна.
4. Появление трупной окоченелости.
5. Появление трупных пятен красновато-синего цвета на мягких тканях тела.
6. Трупное разложение".
Жан Кальме тут же устыдился своего поступка: зачем он стащил эту идиотскую книжонку? Какое глупое ребячество! Он вспомнил, как боязливо оглядывался, судорожно запихивая трактат в приоткрытый портфель… Его отец умер 17 сентября. 20 числа того же месяца тело сожгли в крематории. А до этого, в первые же минуты после кончины, доктор Гросс, вероятно, составил свидетельство о смерти, предварительно констатировав эту славную смерть, эту надежную смерть, из которой никто еще никогда не возвращался. Жан Кальме попытался представить себе красные и синие трупные пятна. "На мягких тканях… " Багровые пролежни на толстых белых ляжках, словно штукатурка под мрамор. Жан Кальме с отвращением подумал о горгонцоле, этом бледном сыре с синеватыми прожилками — ни дать ни взять окоченелая человеческая плоть с застывшей кровью в венах, с омерзительными фиолетовыми синяками в паху и на коленях. Кстати, о коленях! Жану Кальме вспомнилась одна подробность, которую обычно рассказывали все, кто побывал в крематории: коленные суставы не сгорали в пламени, и служитель, собиравший лопаточкой пепел в холщовый мешочек, бросал туда же и сохранившиеся косточки, — эдакий мрачный рожок с игральными костями. Какая ребяческая аналогия! Но все же она развлекла Жана Кальме, заставив его на минуту позабыть о тоске, сжимавшей горло. Его мысли обратились к углям святого Лаврентия, к кострам инквизиции, к печам Освенцима. «Нет, это хорошо! — думал Жан Кальме. — Это действительно кардинальное решение проблемы. Схватите еретика, бейте его, заключайте в темницу, штрафуйте, проклинайте, снова мучьте — он все равно будет упорствовать, он все равно будет твердить свое! Но сожгите его — и он умолкнет навсегда. Огонь лишает всего, вплоть до телесной формы. Огонь, великий очиститель! И вот еретик превратился в щепотку пепла — хочешь, брось его в реку, хочешь, развей по ветру. И никто уже не вспомнит о нем», — удовлетворенно подумал Жан Кальме, тут же, впрочем, осознав всю глубину своей ошибки. Совсем напротив!
— признался он себе с горькой иронией. Чем страшнее казнь, тем громче взывает к живым пепел. И его не принудишь к молчанию. Кресты инквизиции, костры святого Иоанна, груды туфель и золотых зубов Освенцима — все это возглашает победу над злодейством. Пепел вечно жив, он обличает, он зовет к мести, он становится знаменем борьбы с убийцами. Пепел сожженного святого сильнее, чем угли его палачей. Те, кого пожрало пламя, возвращаются и берут слово. А тела, испепеленные огнем… Жан Кальме содрогнулся, представив себе отца в печи крематория Монтуа: плоть доктора лопается от невыносимого жара, раскрывается, извергает жир и влагу, в зияющих трещинах шипит, испаряясь, пот, тело долго корчится в огне и наконец рассыпается в глубине печи, превратившись в жуткий холмик из пылающих костей и липких внутренностей, а потом в кучку тлеющих углей, которые медленно тают, оставляя после себя лишь тонкий слой серой пыли в темном жерле топки, на колосниках, что холодеют вместе с прахом, сокращаясь и потрескивая… Печаль овеяла душу Жана Кальме. Он устал от угрызений совести, от страхов, сердце его горестно сжималось, все тело ломило так, словно ему перебили хребет, — он едва сидел за своим столом, заваленным книгами и тетрадками учеников. Настольная лампа отбрасывала двойной свет — белый книзу, оранжевый кверху, к полкам с книгами и гравюрами его кабинета. Кабинет! Еще одно словечко, подхваченное им в Лютри, как подхватывают заразную болезнь. «Папа у себя в кабинете… Папа зовет тебя в свой кабинет. Поторопись, Жан! Ну, чего ты копаешься, папа ждет тебя в кабинете!» И нужно было все бросить и бежать со всех ног, подняться по звонким ступеням и открыть дверь «пещеры», где доктор, еще более красный от света лампы, восседал среди своих карточек и папок, отбрасывая гигантскую тень на книжный шкаф. И его голос. С первой же минуты враждебный, агрессивный тон, может быть, оттого, что доктор был слишком занят работой, чтобы следить за нюансами, чтобы объясняться, чтобы выслушивать другого, да и зачем, если ему все равно подчинятся. Жан Кальме вспоминал свое унижение; вот он стоит перед отцом, мечтая лишь об одном — как бы поскорее улизнуть, но куда там, приходится выслушивать приказы, терпеть гневные тирады, сальные шутки, жирный смех, всю эту мощную, собранную в одном человеке силу, которая наводила ужас, как гроза над головой. Бесцеремонный, хозяйский тон. Глаза, прожигающие насквозь. Поток слов, одно оскорбительней другого: