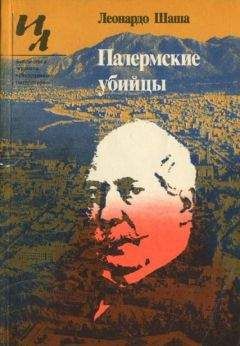Ни судейскийе лица, ни мы, со своей стороны, не сделали из этого вывод, что князь — пользуясь выражением, которое приписал ему Маттаниа, — был «такой задницей», что водил в свой дом завербованных убийц упражняться в поножовщине. Быть может (напомним извлечение из книги Де Чезаре), эта комната и этот манекен предназначались когда-то для упражнений в фехтовании, и бубенчики давали сигнал об уколе, хотя, по нашим сведениям, манекены с бубенчиками использовались при обучении карманников, а не фехтовальщиков. Но этот кинжал, эта замурованная дверь?.. Тщетно ломали над этим голову следственные органы; они не могли потребовать объяснения у князя, который презрительно замкнулся в молчании, пользуясь сенаторской неприкосновенностью. Они могли обыскать дом в обход всяческих запретов, опираясь на мотивировку «неминуемой опасности промедления»— опасности, что улики в любой момент могут быть скрыты или уничтожены. Но они не имели права ни арестовать, ни допросить князя без специального 48 решения Сената. Такого решения так и не воспоследовало, зато на обоих судейских лиц посыпались требования объяснить свои действия, а также упреки и обвинения.
В более мягкой форме и несколько позже были затребованы объяснения и высказаны упреки со стороны министра — хранителя печати относительно обысков в апартаментах монсеньора Калькары и священников Кафанио (иногда в документах стоит: Казанио) и Аккашины в архиепископском дворце. Несомненно, архиепископ жаловался министру на эту акцию, саму по себе оскорбительную и несправедливую, и на ту грубость, с которой карабинеры и солдаты ее проводили.
Джакоза и Мари, пославшие с обыском к Сант'Элиа других чиновников своего ведомства, на одновременном обыске в архиепископстве пожелали присутствовать сами. Таким образом, Гуидо Джакоза пишет министру — хранителю печати как очевидец:
«В половине первого пополуночи синьор Мари, советник Апелляционного суда, вместе со мною явился к главным воротам архиепископского дворца в сопровождении вооруженного отряда, задачей которого было занять все входы и выходы и наблюдать внутри помещения со множеством обширных комнат, чтобы ничего не было вынесено тайком. Мы долго стучались (от шести до восьми минут), требуя именем закона, чтобы нам отперли. Никто не показался. Ни одно из многочисленных окон архиепископства от первого до верхних этажей не приоткрылось; между тем мы знали, что там есть швейцар и много слуг. Тогда советник Мари по согласованию со мной дал приказ силою открыть ворота — у нас были основания предполагать, что столь упорное молчание имеет целью либо оттянуть время и спрятать кое-какие документы, либо, что более вероятно, принудить власти к крайним мерам, дабы потом изобразить из себя жертв и получить предлог для обвинения доверенных лиц правительства в грубости. Когда ворота были уже почти взломаны, внутри дома послышался голос, спросивший: «Кто там?» Ему ответили: «Правосудие, отворите именем закона», и солдатам немедленно было приказано приостановить действия. Но по истечении определенного времени был дан приказ продолжить почти законченное дело. Сорвав с петель одну сторону ворот, мы вошли во двор, погруженный в полную темноту. Несколько раз мы звали и окликали людей, никто не появился, никто не отозвался. Мы зажгли принесенные с собою два факела, увидели парадную лестницу, поднялись по ней и оказались на площадке перед запертой дверью. После долгого стука наконец явился старик, отпер дверь и проводил нас в просторную переднюю. Здесь мы потребовали от него показать, во-первых, апартаменты монсеньора Калькары, во-вторых — священника Кафанио, в-третьих — священника Аккашины, ректора семинарии, примыкающей к архиепископству. Понадобилось некоторое время для того, чтобы заставить этого человека, единственного, кто явился на стук и зов, повиноваться нашим требованиям. В конце концов он провел нас в апартаменты монсеньора Калькары, находящиеся во втором дворе дворца. Разумеется, мы оставили караульных у входов и в ряде комнат, не сумев, однако, охватить всего помещения, учитывая его огромные размеры и совершенно незнакомое нам расположение покоев. Чтобы проникнуть в апартаменты Калькары и Аккашины, нам пришлось выломать еще несколько дверей, ибо нам упорно их не открывали, а ведь шум при взломе ворот должен был бы перебудить всех. В апартаментах священника Кафанио не пришлось прибегать к подобным мерам, так как нам открыли слуги… Ночной обыск — вообще прискорбный факт, а человек раздраженный всегда склонен преувеличивать неприятности. Но с нашей стороны и в отдаваемых распоряжениях, и в той части исполнения, которая ложилась на нас, мы действовали как честные слуги правосудия, как люди воспитанные и цивилизованные».
Понятно, что ничего бросающего тень на монсеньора Калькару и священников Кафанио и Аккашину найдено не было. Да и как могло быть иначе, если дворец оказался для судейских настоящим лабиринтом, а монсеньоры, священники, семинаристы и челядь получили достаточно времени, чтобы припрятать или уничтожить все компрометирующее их. Искали бумаги — но ведь за десять минут можно ликвидировать целый архив. Поэтому монсеньор Калькара, которому, кроме обыска, предстоял еще и арест, выказал почти приветливую безмятежность, «радуясь, что при таком несчастье оказался в руках воспитанных и культурных людей».
Да, действительно, трое священников, арестованные в архиепископском дворце, остальные, арестованные в своих приходах, кавалер Лонго, Чипри и Парети, взятые на собственных квартирах, — словом, все арестованные в эту ночь нашли среди полицейских и тюремной стражи тонко воспитанных людей, доставивших им удовольствие провести время в приятном и достойном обществе. «Вы знаете, — писал Гуидо Джакоза другому судейскому лицу, вероятно ища в нем понимания и поддержки, — что сразу после ареста все задержанные были временно помещены в крепость Кастелламаре и посажены там в одну камеру, где оставались целые сутки в полном и свободнейшем общении между собой с неограниченной возможностью сговориться». Перечислив далее все промахи, препятствия и случаи сообщничества, он добавляет: «Все это Вам известно, и, следовательно, Вы можете составить себе ясное представление об огромных трудностях — и по сути и в деталях, — испытанных нами при выполнении наших тяжелых обязанностей. Мы готовы принять на себя всю ответственность, но надеемся, что все честные люди, оценивая степень этой ответственности, сумеют понять бесконечные затруднения, с которыми нам приходилось сталкиваться, а также скудость средств, имевшихся в нашем распоряжении, чтобы преодолеть эти затруднения». Уже этот разговор в прошедшем времени в сочетании с будущим временем, когда «все честные люди» будут судить о деле, которое автор письма еще сегодня пытается распутать, которое еще надеется разрешить по справедливости, — первый признак отчаянья.
Несвоевременность мер, принятых Джакозой и Мари — слишком рано и одновременно слишком поздно, — была обусловлена настояниями квестуры. «Советник Мари, чье мнение я в целом разделял, считал, что надо еще повременить, потому что, доверяясь обещаниям Маттаниа, мы надеялись получить от него довольно важные документы. Но квестура просила нас покончить с промедлением, доказывая, что в стране создалось очень опасное положение. Официальные донесения, поступавшие из разных мест (в квестуру), предупреждали о назревающих волнениях; распределялись боеприпасы, то тут, то там появлялись вооруженные банды лиц, уклоняющихся от воинской повинности; если можно так выразиться, слышался рокот надвигающейся бури; ощущалась атмосфера близкого восстания. В четверг утром 12-го этого месяца я и советник Мари занимались подготовкой многочисленных ордеров на арест и обыск, когда к нам поступило новое донесение квестора, доставленное инспектором кавалером Солерой. В нем содержались факты, уличавшие некоторых признанных вождей Партии действия и Автономистской партии[25]. К донесению были приложены три документа: письмо генерала карабинеров, анонимное письмо, адресованное префекту и содержащее имена и довольно серьезные разоблачения, и список из десяти человек, чей арест представлялся необходимым. Этим и объясняется то, что в довольно пространном списке арестованных фигурируют имена людей, принадлежащих к столь разнородным партиям». Между упомянутыми партиями было лишь одно возможное связующее звено — князь Джардинелли, которого в силу его «гарибальдийского прошлого;» (он был одним из сотоварищей Гарибальди в последнем восстании на Сицилии и участником битвы при Аспромонте[26]) можно было считать «принадлежащим к крайнему крылу Партии действия». Но Джакоза и Мари не обратили особого внимания на возможность этого посредничества, хотя такое предположение было не совсем бессмысленно в тот момент, когда между Парижем и Неаполем подготавливалась совершенно невероятная встреча — встреча бурбонской партии с партией Мюрата[27].