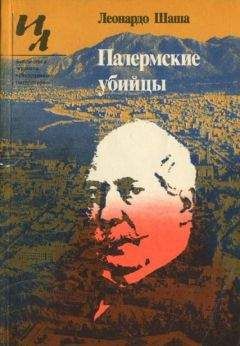Среди арестованных, принадлежавших к «крайней партии», был Джованни Раффаэле, медик, редактор газеты «Политическое единство» (чуть позже, но по ордеру, датированному тем же числом, был арестован также бывший гарибальдийский генерал Джованни Коррао). В 1883 году, будучи уже сенатором Итальянского королевства, Раффаэле опубликовал том «Исторических разоблачений», в которых подробно рассказывает о своем аресте и тюремном заключении, обвиняя во всем квестора Болиса. По словам Раффаэле, все это было подстроено — и оплачено из секретных фондов — квестором по дьявольскому наущению Ла Фарины. Всё без исключения: нападения с кинжалом, признания Д'Анджело, доносы Маттаниа. Прокурор Джакоза — сознательно или будучи обманутым — оказался с квестором заодно. Советник Мари, в отличие от него, не был убежден в правильности своих действий и был бы гораздо более осмотрителен, считает Раффаэле, если бы ему не приходилось подчиняться Джакозе.
В отношении Мари Раффаэле полагается лишь на впечатление, вынесенное из личных контактов: формальная любезность, проявленная Мари к нему на допросах, поблажки, которые делал ему для смягчения тюремного режима, nonchalance[28] (вероятно, он ее и не скрывал), с которой вел расследование, касавшееся «крайней партии». Однако, если бы у Раффаэле были такие же частые контакты и с Джакозой, у него сложилось бы точно такое же впечатление. Мари, как мы знаем из множества подробнейших донесений, был во всем солидарен с Джакозой. Что касается квестора Болиса, то можно согласиться с Раффаэле в том, что тот искусственно раздул дело, втянув в него приверженцев «крайней партии»; но ему невозможно было состряпать все из ничего — поножовщину, затем арест и признания Д'Анджело, появление и доклады Маттаниа. Подозрение, что все было подстроено квестурой, могло возникнуть и у прокурора Джакозы — действительно, в какой-то момент оно у него мелькнуло («Не может ли быть так, что вся история — дело рук самой администрации, которая, чтобы выслужиться перед правительством, разыграла эту трагикомедию и день за днем диктовала своему послушному агенту донесения в выгодном для него — sic! — свете?» Это противное sic, коим профессора испещряют публикации документов, мы позволили себе поставить, дабы подчеркнуть многозначительный ляпсус: Джакоза говорит об администрации, но бессознательно относит это к «нему», к квестору Болису). Но у нас такого подозрения возникнуть не может. Если бы Раффаэле мог прочесть документы, которыми мы располагаем, он бы, конечно, не переменил мнения о квесторе Болисе в части несправедливого преследования и тех неприятностей, каковые ему пришлось из-за этого претерпеть. Но он не стал бы обвинять квестора в том, что тот томил в тюрьме столь же невиновных каноника Патти и иже с ним, кого этот последний в стишках на диалекте, приведенных в книге Раффаэле, объявляет жертвами Маттаниа, Болиса и двух судейских — «то ль жуликов, то ль простофиль».
Здесь надо отметить, что и каноник в своих виршах, и сам Раффаэле постоянно именуют Маттаниа «Матрачиа». Это было бы пустячной ошибкой, если бы Раффаэле не старался столь упорно представить иные данные о семье и прошлом Маттаниа, ручаясь за их точность, в противоположность якобы фальшивым сведениям следственных органов. Дело не в том, происходил ли Маттаниа из приличной семьи и было ли его прошлое незапятнанным. Но вся эта информация, которую Раффаэле разыскал приватным путем, — не относится ли она действительно к некоему Матрачиа? Если к этому добавить, что, как уверяет Раффаэле, шпиона на самом деле звали не Орацио, а «почти наверняка» Джузеппе, то получается явная несообразность: неуверенность в имени — и такая уверенность в родне и прошлом Матрачиа — Маттаниа. Этот последний, безусловно, был прескверный субъект — и Джакоза, как мы могли убедиться, это знал. Но иной раз бывает, что и скверные типы свидетельствуют истину и за эту истину расплачиваются так, как им никогда не пришлось бы поплатиться за ложь.
Обвинения, с которыми Раффаэле выступил против квестора Болиса, едва выйдя из тюрьмы, и которые повторил в своей книге двадцать лет спустя, противоречат — даже если оставить в стороне документы — логическому ходу рассуждений: ведь если Болис действительно все это подстроил, то и вся махинация была бы с самого начала направлена против «крайней партии». На самом же деле бумаги, где о ней идет речь, были лишь в самый последний момент приобщены к делу бурбонской партии, причем столь поспешно и неумело, что Джакоза и Мари менее чем через месяц освободили всех арестованных из Партии действия и Автономистской партии и ликвидировали все «достижения» полиции в этом вопросе. Впрочем, Раффаэле в какой-то момент позволяет себе обронить замечание, что в событиях 1 октября «общественное мнение не без оснований обвиняло прогнившую полицию, тесно связанную с пресловутым патриотическим обществом»; точно так же считал и Гуидо Джакоза, коль скоро «пресловутое патриотическое общество», упоминаемое Раффаэле, и было то самое, где предводительствовал Сант'Элиа. Раффаэле, по-видимому, кивает именно в эту сторону: ведь недаром он не выражает относительно обыска в доме Сант'Элиа ни негодования, ни удивления, что он неизменно делает по поводу ошибок и злоупотреблений полиции и судебных органов, слепо повиновавшихся, по его мнению, адским замыслам Ла Фарины. Впрочем, ему было бы трудновато подобрать хоть одну причину, по которой Ла Фарина стал бы устраивать Сант'Элиа эту полицейскую и судебную западню, в то время как существовало множество поводов к тому, чтобы побудить Ла Фарину выручать, покрывать князя. (По мнению одного из наших друзей-журналистов, история Италии от объединения до наших дней в большой степени обусловлена соперничеством, явной или тайной враждой между сицилийцами. Начало положила вражда между Ла Фариной и Криспи; вражду между генеральным прокурором Кармело Спаньоло и начальником полиции Анджело Викари[29] можно считать, видимо, последней. Мы хотим сказать — самой недавней, насколько нам известно; но возможно, что существуют и другие, про которые мы не ведаем, но плоды которых сейчас ощущаем.)
В «Сицилийских официальных ведомостях» от 4 апреля 1863 года читаем: «Вчера вечером его превосходительство князь Сант'Элиа, сенатор Королевства, по специальному полномочию Его Величества короля присутствовал в королевской Капелле «Палатина» на скорбном богослужении, каковым церковь чтит великое самопожертвование, совершенное на Голгофе. После полудня того же дня его сиятельное превосходительство сопровождал кортеж со статуей Пресвятой Богоматери Соледад, который по священному обычаю проследовал по улицам города. К вечеру процессия возвратилась к церкви тринитариев[30] на площади Витториа, где постоянно хранится святое изображение. В шествии участвовали префект провинции и мэр города… Эта печальная церемония совершилась при многочисленном стечении народа и в полнейшем спокойствии».
Церковь тринитариев была и остается до сих пор испанской. Приходский священник в ней — испанец, он подчинен, если память нам не изменяет, епископству Леона[31]. Поэтому там особо чтут мадонну Соледад. Для нас слово «соледад»[32] вызывает ассоциации, имеющие мало или совсем ничего общего со страданием: это имя носят черноокие и чернокудрые женщины; «la musica callada, la soledad sonora», — писал Антонио Мачадо[33]. Но Nuestra Seflora de la Soledad, la Virgen de la Soledad, Maria de la Soledad[34] — это, по-нашему, Богоматерь Скорбящая. И изображается она у нас, как и в Испании, с кинжалом в груди, а иногда с семью кинжалами, расположенными полунимбом, — реалистическая метафора, возвещающая о распятии сына, а также о грехах и пороках людских, которые ранят мадонну. И как правило, у кинжала, вонзенного в грудь статуи из гипса или папье-маше, — серебряное лезвие, позолоченная рукоятка — таким можно заколоть и взаправду; часто, если клинок длинен, видно, как он подрагивает в такт шагов, когда несут статую.
«Специальное полномочие» представлять короля в этой процессии было, следовательно, для князя Сант'Элиа триумфом над теми, кто его обвинял, и вместе с тем оно явилось в глазах палермцев своего рода возмездием. При виде того, как он скорбно шествует за статуей, в чьей груди кинжал торчит точно так, как он торчал у бедняги Ди Марцо меж первым и вторым позвонками, в толпе наверняка без устали шепотом обменивались ироническими репликами, которые докатывались до ушей князя и его друзей, словно волны прилива. Думается, отсюда нарочитость, с какой газета подчеркивала, что процессия проходила совершенно спокойно: совершенного спокойствия как раз и не было, хотя бы из-за этого всеобщего непрерывного ропота. Мы полагаем, что это была скорее ирония, чем негодование. В любом другом месте вакуум правосудия был бы восполнен возмущением, а здесь, как всегда, его заменили безобидными прибаутками, обширный список которых можно найти в романе Джованни Верги «Семья Малаволья»[35].