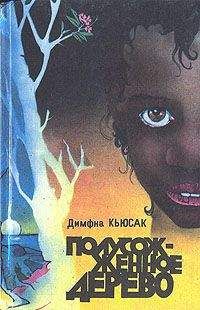Четверка двигалась своим путем – наподобие урагана, как выразился один из американцев. Себя они называли «Нетаками», заранее предупреждая о своем полном несогласии с тем, что могут думать их родители и другие «старички», и для прекращения любого «буржуазного» разговора пускали в ход изобретенное ими заклинание. В ответ на любое высказывание старших задавался исполненным сомнения голосом следующий вопрос: «Но, конечно же, это не так?» Благонамеренных педагогов этот вопрос доводил до нервных припадков, а доброжелательных «старичков» обращал в бегство. Нетакское заклинание применялось для разбора по косточкам всех общепринятых принципов и требовало такой умственной работы, что Лиз уже через неделю поняла, что обрела, наконец, свою духовную родину.
Время, свободное от игр и бассейна, они тратили на выискивание пассажиров второго класса и членов команды, которые могли знать какую-нибудь неизвестную им песню, а также на записывание этих песен, разговоров и обрывков болтовни. Через пять минут после прибытия в очередной порт они исчезали, а когда возвращались, то знали о месте этой краткой стоянки больше, чем кто-либо еще.
Элис попробовала протестовать, опасаясь, как бы они не заразились в туземных кварталах какой-нибудь страшной болезнью, но судья сказал:
– Ни один микроб не посмеет на них напасть. Не беспокойтесь о них. Если вы не встанете им поперек дороги, вам ничто не грозит. Ведь они похожи на зверя из «Кандида». Помните надпись на его клетке? «Очень опасное и злобное животное. Защищается, когда на него нападают». Разница лишь в том, что они не в клетке.
– Нет, почему же, – возразил американец. – Только они носят ее с собой.
За шахматной доской судья неторопливо развил эту мысль:
– Не берусь решать, запираются ли они для того, чтобы не выходить, или для того, чтобы мы не могли к ним войти. Говоря откровенно, я их совершенно не понимаю. Среди многих мифов о семье существует и миф о том, будто дедам и бабушкам внуки ближе, чем были их дети. Это один из наиболее неубедительных мифов, которые мы создаем, чтобы возместить себе невозможность общения между поколениями. Находись мои внуки на Марсе, они не были бы дальше от меня, чем теперь. И все-таки мне нравится, когда они со мной. Мне нравится наблюдать, как они воспринимают мир – совсем иначе, чем когда-то мы. Мы превратили его в такой хаос, что я утратил веру в наши методы. И потому я готов их приветствовать, как приветствовал бы пришельца с Марса, посвятившего свой более высокий интеллект решению проблем, которые нам пока представляются неразрешимыми. Кроме того, они дают пищу моему мыслительному аппарату, а после жизни, проведенной в судах, это необходимо. В моем возрасте это утешительно, особенно для человека, который приближается к концу жизни, прожитой напрасно.
– Прожитой напрасно, хотя вы столько сделали как судья и заслужили такую репутацию?
– Как раз поэтому. Надеюсь, я не подорву вашей веры в работу, которой занимаетесь вы сами, если скажу вам, к какому выводу я пришел: закон по самой своей природе не имеет никакого отношения к справедливости, а я всю свою жизнь очень искусно скрывал от себя этот факт.
Мартин был так удивлен, что прозевал очевидный ход.
После недели применения принципа «это не так» к жизни их семьи он уже утешал Элис:
– Радуйся хотя бы тому, что они не малолетние преступники.
– Кажется, я это предпочла бы! – воскликнула она. – В таком случае можно было бы что-то сделать. Мне становится страшно при одной мысли, к чему приведет знакомство Лиз с такими детьми, если их можно назвать детьми.
– Милая Элис, речь отнюдь не идет об одностороннем влиянии. Ванесса говорила судье, что это просто сказочно – проехать десять тысяч миль и встретиться с единомышленницей.
Когда соседка Ванессы по каюте сошла в Сингапуре, Ванесса попросила, чтобы Лиз позволили переселиться к ней. Судья дал согласие, Мартин дал согласие, дети жаждали этого, и Элис после нескольких робких протестов пришлось уступить. Как она могла объяснить им, что почувствовала себя брошенной и преданной? Жить одной в двухместной каюте значило открыто признаться в своем одиночестве.
– Во всяком случае, теперь никто не будет нарушать твоего покоя, – ласково заметил Мартин и несколько растерялся, услышав ее ответ:
– Если мне нужен такой покой, то проще было бы умереть.
И никто ей не сочувствовал. Матери, уставшие от своих обязанностей по отношению к детям, говорили ей:
– Как удачно, что эти дети освободили вас от вашей племянницы.
Хорошо им говорить, думала Элис. Свои двухместные каюты они уютно делили с мужьями и уютно вели с замужними ровесницами задушевные беседы, которые сразу же иссякали в присутствии пожилой старой девы.
Пока Элис оплакивала то, что называла ужасной переменой в Лиз под влиянием Нетаков, Мартин начал понимать, что его дочь была такой всю жизнь.
Больше всего Элис возмущало то, что возмущаться было нечем. Будь это обычная распущенность испорченных подростков, можно было бы за что-то ухватиться. Но Нетаки не нарушали правил поведения, считавшихся обязательными для подростков их круга, – они вели себя так, словно этих правил не существовало вовсе.
Кульминация была достигнута в тот день, когда Лиз вышла к завтраку без своих длинных толстых кос – Ванесса отхватила их на уровне плеч. Никто, кроме Мартина, не знал, что это было решительным и безжалостным завершением длительной кампании горячих просьб и бурных требований, на которые сначала бабушка, а потом Элис отвечали твердым «нет».
Яростное негодование Элис было задушено в зародыше, потому что все наперебой говорили:
– Как мило выглядит ваша племянница без кос! Точно прелестный бесенок.
И Элис про себя признала ее бесенком, со всеми сумасбродными качествами, которые приписываются бесенятам.
Это было несправедливо, но с тех пор Элис, осуждая Лиз, редко бывала справедлива. Если не считать отрезанных кос – а это, безусловно, очень ей шло, – девочка вернулась домой такой же, какой уехала. Конечно, у нее появились новые увлечения: фольклорные песни – конек Чаплина, и ядерное разоружение – страсть, которой ее заразили близнецы. Но все это, думал Мартин, с тем же успехом могло произойти с ней и дома, как произошло с Младшим Маком и молодыми Манделями, которые никуда не уезжали. Он пытался утешить Элис:
– Во всяком случае, следует радоваться, что она не похожа на Розмари Рейнбоу.
Но Элис ничто не утешало, и с каждым днем ее характер портился все больше. Она делала дом невыносимым. Но он знал, что без нее дом тоже будет невыносимым.
Теперь, когда остался позади уже пятидесятый день его рождения, это последнее разочарование словно выявило все, что скрыто зрело в нем со времени их путешествия. Он был потрясен, но не хотел анализировать причины этого потрясения, чтобы не поддаться губительному влиянию дочери, стоящей на пороге жизни, и сестры, превращающейся в истеричку от сознания, что жизнь уходит безвозвратно.
Когда Лиз поднялась на переходной мостик и увидела высокого юношу, прислонившегося к перилам, ее лицо сразу прояснилось. Она порывисто протянула ему руку.
– Мак! Какой чудесный сюрприз! А я-то думала, что мне придется кое-как дотягивать до часу дня, не увидев этой симпатичной физиономии!
Младший Мак взял ее руку и не выпустил. Рука об руку они спустились по лестнице. Лиз едва доставала до его плеча, небрежно ссутуленного под старой курткой.
– Я видел, как ты прыгнула в поезд, и решил подождать. Что так рано?
– У папы свидание с клиентом, и я решила поехать с ним. Он сегодня хандрит.
– Что случилось?
– С папой?
– Нет, с тобой. Ты вся сжата, точно перекрученная пружина.
– Как обычно. Тетя Элис нагнетает давление для взрыва, а я служу буфером.
– Почему ты не убедишь ее показаться хорошему врачу?
– Это ее смущает.
– Неужели в мире еще есть женщины, которых смущает мысль о менопаузе?
– Есть. И это грозное предостережение девственницам.
– Это предостережение идиотски устроенному обществу.
– Ну, как бы то ни было, а у меня такое ощущение, будто я наглоталась живых гусениц.
– Подобная обстановка вредна для твоих нервов и для твоей работы. Почему ты не хочешь уйти в общежитие?
– Не могу. Такого оскорбления они не вынесут. И я не могу оставить папу с ней. Во всяком случае, ради общежития. Если бы я вышла замуж, тогда другое дело.
– Не вижу почему.
– Если я уйду в общежитие, это будет просто смертельным оскорблением. Замужество же – это катаклизм, а с катаклизмами не спорят.
Младший Мак пожал ее руку и только потом отпустил. – Ну хватит нежностей. Вон Дональд у киоска, а подобные зрелища теперь выводят его из равновесия.
Когда они подошли к Дональду, он оторвался от газеты.
– Напечатали! – возбужденно воскликнул он. Лиз, вытянув шею, заглянула через его плечо.