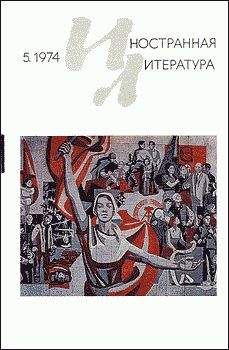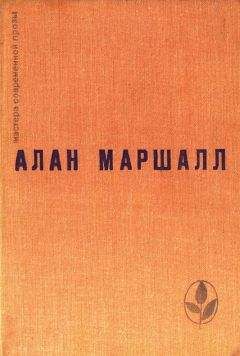Через некоторое время Уилли уже не казался противоестественно чистым, большая часть доступных снарядов была израсходована, и мальчикам надоело воевать.
— Эй! Эй! — закричал Мэкси.
— Давай сюда! — крикнул Уилли, и мне пришлось оставить в покое бабочку с тонкими голубыми крылышками, за которой я охотилась.
— Ладно, ладно! — сказала я, и мы стайкой воробышков отправились дальше.
Предоставив портфель его собственной судьбе — образчик поведения, которое теперь уже полмира считает нормальным отношением к собственности, — я отправилась домой.
Когда я после ленча возвращалась в школу одна — разгневанные матери Уилли и Мэкси все еще отмывали своих сыновей, — из-за живой изгороди появилась высокая серая фигура, увенчанная физиономией с очками на носу и серой твидовой кепкой.
Через изгородь протянулась длинная серая рука, и я услышала голос:
— Девочка, это твой портфель?
— Мой, мой, спасибо! — Всем своим видом я старалась выразить благодарность. — Он был там, я оставила его раньше. Когда мы здесь играли.
— А вы... хм... вы рвали маслины?
— Да, Мэкси и Уилли. Я не очень люблю маслины.
Я хотела сказать, что не люблю брать их в руки, потому что пальцы становятся черными. Любить их, наверное, никто не любит — они ведь совершенно несъедобны, ужасная гадость. Про черные соленые маслины я никогда не слышала, а про оливковое масло знала, что его наливают из бутылки.
Старик очень внимательно смотрел на меня сверху вниз.
— А Мэкси и Уилли, они... хм... ходят в школу вместе с тобой?
— Да. Мы ходим в самый младший класс. Вон туда.
Я выписывала круги, размахивая вновь обретенным портфелем, и пятилась от старика.
— Спасибо, что сберегли портфель. До свидания.
— До свидания, девочка.
На следующее утро, как только мы пришли в школу, нас окликнула насупленная учительница:
— Вы, трое, идите-ка сюда. Мне надо с вами поговорить.
Очень удивленные, с выражением полнейшей невинности на лицах (наша совесть была чиста: за овцами не гонялись, в птиц из рогатки не стреляли, вниз головой на высокой ветке сосны не висели), мы подошли к учительнице.
— Что, мисс Рэмси?
— Ко мне приходил мистер Приск, тот, что живет немного дальше по дороге. Он очень сердится. Он говорит, что вы воровали у него маслины.
— ВОРОВАЛИ?!
— Его противные маслины?!
— Да мы...
— Он сказал, что два маленьких мальчика — Уилли и Мэкси — и маленькая девочка, имя которой он прочел на внутренней стороне портфеля, оборвали половину маслин на его деревьях. А когда увидели, что он идет, бросились бежать. И маленькая девочка так торопилась, что забыла портфель.
Уже потом, на большой перемене, когда нас заставили писать извинительное письмо мистеру Приску, мальчики сказали, что это я во всем виновата. Если бы я не бросила свой портфель, нас бы «не застукали». А зачем я сказала ему, как их зовут?
— Потому что он ничего такого не говорил, понятно? Он просто старый обманщик, а я думала, он добрый.
Мистер Приск первым изложил свою версию событий, и я получила представление о прихотливых путях, которые избирает справедливость в нашем несовершенном мире.
Кипя от негодования, мы объединили наши усилия и абсолютно разными почерками написали на линованном листке бумаги каждый по одной строчке:
Дорогой мистер Приск, мы
жалеем, что взяли
ваши ма-слины.
— Старая обезьяна, пусть у него так заболит, так заболит живот, когда он съест все остальные маслины!.. — сказала я злобно.
Навряд ли мистер Приск умер от того, что объелся маслинами, но по прошествии нескольких месяцев творец призвал его к себе. Меня в то время необычайно занимали покойники и пышный обряд похорон. Возвращаясь днем из школы, я засмотрелась на сияющий катафалк на подъездной дорожке и на цветы, рассыпанные по крыше катафалка и расставленные внутри в маленьких серебряных вазочках.
Мистер Приск (или, вернее, его земные останки), наверное, еще находился дома, но его душа, которая, по моим смутным представлениям, обитала где-то в груди и в верхней половине тела, очевидно, уже отправилась на небо.
Мне очень хотелось знать, как выглядит мертвый человек, когда какая-то его часть уже упорхнула к ангелам. Может быть, от него не остается ничего, кроме скорлупы вроде полупрозрачного пустого панциря краба?
Я направилась к воротам с намерением нанести прощальный визит мистеру Приску. Как-никак при его жизни я все-таки была с ним знакома. Крепко сжимая в руке свой маленький портфель, я проследовала по подъездной дорожке и вошла в открытую дверь. В холле мужчины в черных костюмах молча устремили взгляды в мою сторону.
В глубине, в дверях соседней комнаты, стояли две заплаканные дамы — пухлые матроны в шляпах с цветами и с мокрыми носовыми платками в руках.
— В чем дело, дорогая? — спросила одна из них и выставила руку, преграждая мне путь.
— Я хочу видеть мистера Приска.
— Боюсь, дорогая, что это невозможно. — Она понизила голос до шепота. — Мистер Приск...
—- Мистер Приск ушел от нас, — сказала другая дама каким-то неестественным голосом.
— Да, я знаю, но он ушел не весь целиком, — рассудительно возразила я. — Я хочу увидеть то, что осталось.
При этих словах воцарилась напряженная тишина. Я заметила, что взгляды матрон скрестились у меня над головой. Одна из них безвольно махнула рукой, как будто хотела сказать: «Сделайте с ней что-нибудь, это выше моих сил».
— Послушай, дорогая, — сказала вторая дама, и я услышала, как заскрипел ее корсет, когда она наклонилась, чтобы взять меня за руку своими пухлыми пальчиками. — Ты, наверное, хочешь попрощаться с мистером Приском? Он был твоим другом? Я скажу тебе, что мы сейчас сделаем; мы пойдем в сад и нарвем хорошенький маленький букетик цветов, а потом я положу этот букетик к нему в гроб. Сейчас тебе нельзя входить туда... — Она кивнула в сторону комнаты, где толпились люди, которые казались очень важными и в то же время виноватыми, потому что они были живы и здоровы, а мистер Приск мертв, — видишь ли, там сейчас собрались все его родственники, и, кроме того, ты еще слишком маленькая, и э-э...
Изливая потоки слов, она подталкивала меня к выходу, и я не успела сказать ей, что покойник вовсе не относился к числу моих друзей, что он возбуждал у меня чисто научный интерес, связанный с моей врожденной пытливостью.
Я стояла в саду, уныло срезала розы «Сесиль Бруннер» и представляла себе, как мистер Приск (вернее, его верхняя половина) смотрит на меня с неба и жалуется богу:
— Вот полюбуйтесь, теперь она крадет у меня розы...
Перевод с английского Ю.Родман
В такой молодой стране, как Австралия, нужно не мешкая обзаводиться прошлым. Я это знаю. Знаю, потому что приехал сюда из Австрии шесть лет назад. Как я прожил эти шесть лет, пока не обзавелся прошлым? Я приехал в эту страну молодым, самоуверенным завоевателем, как многие другие. Приехал и понял, что я еще новорожденный. Я понял, что приехать в незнакомую страну — это все равно что родиться заново. Это тяжело, это значит, что большая часть прежней жизни отсечена навсегда.
Мой отец был художником. Когда он умер, дом пришлось продать, и я получил немного денег. Мне было двадцать лет, у меня была девушка. Я ей не нравился. Сейчас мне двадцать шесть. Я кое-как говорю на двух языках — это почти то же, что сидеть на двух стульях. Потому что я еще не решил, какую из моих прежних жизней считать своим прошлым. А может быть, дело в том, что шесть лет — это еще не такое прошлое, на которое можно усесться, а другое свое прошлое я потерял, когда пересекал экватор. Кто знает.
Обзавестись прошлым. Именно. Когда отец умер, а дом продали и картины, висевшие на стенах, тоже продали, дом изменился. Я до сих пор помню, как он менялся. Сначала увезли мебель. Это было еще терпимо. Но потом увезли почти все картины. Я должен объяснить: в доме отца висело очень много картин. Стены дома были сплошь увешаны картинами, эскизами и гравюрами. Портретами знаменитых людей. Пейзажами и натюрмортами. Когда картины сняли со стен и увезли, отец ушел вместе с ними. Он умер второй раз. Это была земная смерть его души. На стенах остались бледные квадраты в тех местах, где раньше висели картины. Но когда стены окончательно опустели и онемели, я не мог вспомнить ни одной картины. Стены начали сдвигаться, большие комнаты становились все меньше и меньше, мне было нечем дышать, мое сердце разрывалось от боли, и я выбежал на улицу. В конце концов я понял, что остался один: отец и мать лежали рядом на старом кладбище в старом семейном склепе. Я понял это, потому что вдруг появились голые стены. До тех пор я даже не знал, что в доме есть стены. Пройтись по комнатам отца — значило пройтись среди его богатств. Пройтись рядом с пейзажами и великими людьми и вдруг услышать, какая тишина затаилась между кувшином и тремя апельсинами. Когда я проходил по комнатам отца, глаза многих великих художников становились моими глазами и чего только я не видел. Стен не было. Я мог разглядывать далекие-далекие поля, и лица, и апельсины. А потом появились голые стены. Я понял и заплакал, потому что мой отец умер.