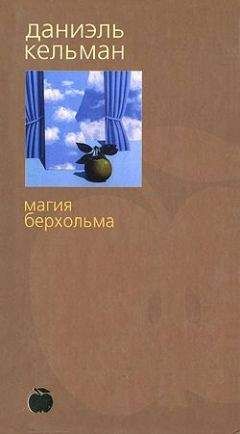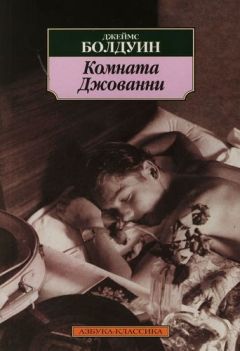Когда в древних книгах один из множества чернобородых героев должен совершить выбор, он «пребывает в борении», «преодолевает» собственную слабость и искушения демонов и вообще переживает ужасные, невыносимые муки. У меня все было по-другому: так как я нашел предпосылки, вывод напрашивался сам собою, да к тому же обошелся без тяжких размышлений. Несколько раз я ходил в маленькую церковь, преклонял колени на неровном каменном полу и пытался молиться, потому что считал, что так принято. Но мои молитвы оказались всего лишь дополнительным заданием, лишним и ненужным. На холодном полу у меня быстро заболели колени. Я не отрываясь смотрел на потолок и потрескавшиеся балки, на большое деревянное распятие под ними и на бессильно повисшую фигуру с искаженным страданием ртом. Мне было не по себе, я не знал, что должен в таких случаях говорить алчущий духовного наставления. Как ни странно и даже жутко, я был сам себе смешон. И как только кто-то вошел – старик, бормочущий себе под нос, – я торопливо поднялся с колен и выбежал, чтобы он не успел разглядеть моего лица.
Может быть, все это не так; может быть, это всего лишь мнимые зеркальные отражения реальности, которые я вызываю силой волшебства перед нами обоими. Не исключено, что все это время я тебе лгал. И себе тоже. Ведь это я был тем ребенком, который закричал когда-то, давным-давно, испугавшись грома. А потом, плача, подошел к окну, чтобы позвать Эллу; я знал, что она там, внизу. И только тогда я ее увидел. Если внезапно превратится в лед воздух, которым ты дышишь, если в то же мгновение в тебе застынет теплая кровь и ты замрешь, без движения, меж хладом и хладом, то, быть может, у тебя возникнет слабое представление о том, что я испытал. Не помню, сколько я простоял там, у окна, – это всего лишь избитая фраза, конечно, но она в самом деле здесь уместна: я и правда не помню. Я смотрел на маленькую деформированную игрушечную фигурку на газоне без мыслей, без чувств, ощущая лишь чудовищное присутствие ужаса. В этот миг он так глубоко проник в мое тело, что я до сих пор ощущаю его в ноющих суставах, подобно слабой ревматической боли. Но потом вокруг меня сгустился серый туман, колени подкосились, а сознание растворилось в спасительном забытьи. Придя в себя, еще не открыв глаза, я несколько неясных, утративших четкость секунд пытался уверить себя в том, что это дурной сон, кошмар.
Все, что я сделал в жизни, все мои поступки так или иначе несли на себе отпечаток этого переполненного ужасом мгновения у окна. И если так?… Хорошо, существовали две возможности: либо Эллу убил слепой случай, либо некий бог, которому все прискучило, тренировался на ней в снайперской стрельбе. Что лучше? Может быть, я хотел встать на сторону силы, туда, откуда мечут молнии, а не на сторону тех, в кого они попадают? Видишь, я пытаюсь быть честным. Вполне возможно, что за всеми моими изящными размышлениями скрывается не что иное, как метафизическая разновидность беспринципности. Ну что, теперь честно?
Но как бы там ни было, я принял решение, и Берхольм не возражал. Между тем приближались экзамены на аттестат зрелости. И хотя я догадывался, что на самом деле бояться нечего, я ждал их не без трепета. Снег растаял и маленькими, по-весеннему прозрачными ручьями стек по растрепанным лугам в долины. Показались несколько смущенных цветов и были осторожно съедены первыми коровами. Дни опять захватывали часть ночи, а живописное крестьянское семейство с новыми силами вышло из альпийской хижины и расположилось на пороге для первой в этом сезоне фотографии.
Тем временем предстоящие экзамены сумели проникнуть в мои сны. Сначала в облике искаженных, точно в кривом зеркале, ассоциаций: то в виде допроса в полиции, проводимого небритым, изысканно-вежливым чиновником, то в виде анкеты, навязываемой разбитным журналистом, что-то помечающим не в блокноте, а на куске белого хлеба, то в виде экзамена по исполнению сальто, который мне предстояло сдавать на манеже огромного цирка под любопытными взглядами безмолвных шимпанзе, собравшихся на трибуне. Постепенно экзамены обрели в моих снах более отчетливую форму: теперь я стоял у стола, за которым сидели Берхольм и Финзель, и должен был перечислить имена всех европейцев старше семидесяти пяти лет. Пока Берхольм осуждающе смотрел на меня, потому что я не знал ответа, Финзель достал из кармана газету и стал ее жевать. Через несколько недель кошмары отбросили ухищрения и притворство. Едва закрыв глаза, я обнаруживал, что стою перед исполненной чувства собственного достоинства экзаменационной комиссией в составе Финзеля, безымянного и безликого председателя, моей преподавательницы немецкого языка, преподавателей математики и французского и мсье Гокса, преподавателя гимнастики, пытавшегося удержать на носу бурый чешуйчатый ананас.
– Ваше сочинение, – любезно начала преподавательница немецкого, – смехотворно. Сплошные отступления от темы, одна вода. Вы так и не дошли до сути.
– Представьте себе, – продолжал математик, – что плоскость пересекает призму, в сечении образуется квадрат. Вопрос: ну и кого это интересует?
– Вы умеете танцевать? – спрашивал господин Гокс.
– Спокойно! – приказал Финзель. – Спокойно, все будет хорошо. Просто выберите карту! – И он протянул мне крошечную колоду с фиолетовой блестящей рубашкой.
Господин Гокс тихо засмеялся, ананас покачнулся, соскользнул с носа и беззвучно провалился сквозь отверстие в полу. Он проводил его взглядом, покачал головой и тихо зарыдал.
– Ну, в чем дело? – Финзель нетерпеливо постучал по столу. – Не можем же мы ждать целую вечность. Вы думаете, мы только вами и будем заниматься? Возьмите карту! Выбирайте! Чего вы хотите?
– Я хотел бы, – сказал я тихо, – проснуться. Я хотел бы проснуться.
Финзель наморщил лоб: «Проснуться? Ну хорошо». И вдруг я почувствовал, что падаю; пространство деформировалось, как скомканная бумага, время куда-то понеслось, точно на американских горах. Какое-то мгновение я парил в сияющей белой пустоте, потом ощутил, как меня объяло что-то прочное, устойчивое. Что-то мягкое. Моя постель.
Было тихо. Только дыхание Жана доносилось с другого конца комнаты. Надо мной на потолке висела продолговатая полоса лунного света да выдавалась темным четырехугольником книжная полка. Я снова закрыл глаза, но нервное напряжение не отступало, тягостное и язвящее. Я попытался думать о чем-нибудь постороннем – об овцах, нет, лучше о коровах на лугу. Это не помогало, и я заменил их птицами в небе, но, сделав вираж-другой, они превратились в вертолеты, а потом в больших сверкающих жуков. Наконец, я попробовал представить себе море, но я его никогда не видел, поэтому у меня получился всего лишь водоем с бесцветной водой.
Тогда я стал размышлять, где же я буду учиться. Существовало несколько вариантов, и ни на одном из них я еще не остановился. Может быть, я даже вступлю в какой-нибудь монашеский орден: эта мысль привлекала меня чем-то строгим, солдатским. Я попытался вообразить монастырь: высокие каменные стены, крестовые ходы, старый колодец, огород. Здание, поспешно воздвигнутое моей фантазией, было немного нечетким; не обошлось в нем и без декораций из моей школы и дома Берхольма. И все же оно мне нравилось. Я даже почувствовал, как постепенно успокаиваюсь и как медленно, точно вода затопленный подвал, меня переполняет сон. Вот я уже возле монастыря, открываю высокие ворота – они отворяются легко, без усилий – и вхожу. Погруженный в тень вымощенный камнем коридор, старая лестница со стертыми ступенями, по которой я поднимаюсь. Еще один коридор; косо падая сквозь окно, лучи света по диагонали пересекают пространство; невольно втягиваешь голову, чтобы о них не удариться. Мимо проходят какие-то люди, но я высокомерно оставляю их бесплотными и безликими. Я внимательно слежу за своими шагами; не без усилий мне удается расслышать их гулкое эхо, странное в тишине. А вот и дверь. Я останавливаюсь, подхожу ближе. В самом деле, сюда я войду. На уровне глаз висит гладкая латунная табличка – теперь здесь должна появиться фамилия. Что-нибудь оригинальное, латинское? Или лучше выбрать что-нибудь простое: Вебер, Шустер… Нет, если уж из области ремесел, то тогда Фасбиндер. Очень хорошо, звучит скромно и вместе с тем убедительно. Я сосредоточиваюсь на табличке, и там, сначала серой тенью, а потом все более отчетливо, проступают буквы: «Отец Фасбиндер». Теперь я, пожалуй, могу войти. Стучу в дверь. Ни звука. Вздор, должен же там кто-то быть; хотя бы потому, что мне так хочется. Стучу снова. На сей раз я слышу голос, который что-то произносит. Наверное, «Войдите!» Я поворачиваю ручку, дверь распахивается. Я вхожу.
За дверью оказался просторный, удобно обставленный кабинет. Книжные полки, стулья, стол, на нем – механическая пишущая машинка. За машинкой сидел человек. Лет пятидесяти с небольшим, среднего роста, довольно толстый, седой, с острым носом, мясистыми щеками и густыми бровями. Он был в черном костюме с белым воротничком, а на лацкане у него поблескивал тонкий серебряный крест. Он сидел, опустив голову, и, когда я вошел, даже не взглянул на меня. Я в замешательстве остановился.