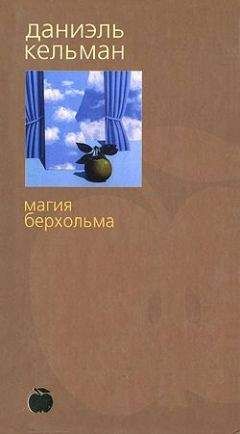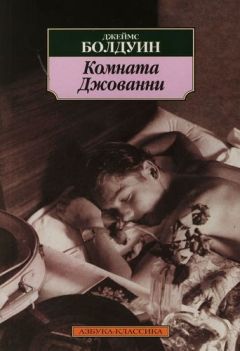Домой. Заходит солнце, на улицах включаются фонари, на небе загораются первые световые рекламы сигарет и лимонада. Снова нырнуть в метро, снова двадцать одинаковых фотографий во всех газетах, но теперь это утренний номер. Узлы галстуков немного ослаблены, пуговицы на воротничке расстегнуты, лица выглядят постаревшими. Подняться на эскалаторе; вот и ночь. Разогретые полуфабрикаты на ужин, потом новости по телевизору, потом несколько глав «Summa Theologica»[30] или незамысловатого и остроумного детектива. Выключить свет. Мучительный час борьбы с бессонницей, недодуманные мысли, путаные образы, нашептанные демонами из-под подушки. Но к счастью, существует снотворное. Грамм белого спрессованного порошка спустя несколько минут обволакивает тебя нежной химической тяжестью, растворяя все, что в смятении мечется по твоему сознанию, и вот наконец ты соскальзываешь в сон.
Я снимал маленькую квартиру – «комнату с ванной и кухонной нишей», как было сказано в объявлении, – в довольно спокойном районе города. Обои осквернял назойливый цветочный узор; из окна открывался вид на маленькую площадь со старым фонтаном, вечно отключенным и высохшим. Прямо напротив моих окон приютилась скобяная лавка, и, если присмотреться, можно было разглядеть сквозь стеклянную витрину ее владельца, неподвижно сидящего внутри в ожидании покупателей, которых все не было и не было.
Я читал то, что требовалось по программе, написал несколько курсовых работ («Блаженный Августин и Воскресение», «Диспут о модернизме с точки зрения Второго Ватиканского собора»[31]), по своим путаным конспектам готовился к экзаменам, на которых получал посредственные оценки. Сначала я много гулял, но вскоре обнаружил, что все везде одинаково и смотреть, в сущности, не на что. С тех пор я никуда больше не ходил.
Я почти ни с кем не общался. Во всем городе я знал лишь нескольких продавцов в мрачных магазинах, нескольких университетских профессоров и, конечно, многих студентов. Студенты были довольно странные. Казалось, большинство из них пребывает в состоянии никогда не ослабевающего внутреннего напряжения, они точно говорили, стиснув челюсти, сквозь зубы – и это не только образное выражение. По их виду нетрудно было заметить, как они боятся услышать издевательский вопрос: «А зачем вам это богословие?» Любому из них его задавали раз сто или даже чаще. Они жили в состоянии вражды с окружающим миром, обрушивавшим на них град насмешек, недоверие или буйную веселость, объяснявшим их духовное призвание с помощью всевозможных психологических теорий или равнодушно пожимавшим плечами. Они постоянно ждали пренебрежительных ухмылок. На каждом шагу подстерегали женщины, телешоу, блокбастеры, рекламные плакаты – зазеркальный мир, обманчиво прекрасный и легкий. А мы были странными, нереальными второстепенными персонажами. Поэтому мы жили, втянув голову в плечи, в вечном страхе выставить себя на посмешище.
А еще целое море искушений; мсье Люцифер, единственный, кто принимал нас всерьез, не оставлял нас в покое ни днем ни ночью (особенно ночью) и приводил в действие электрические орудия пыток на наших бедных душах, как и где только ему заблагорассудится. Он оказался талантливым кутюрье; он создавал новые фасоны мини-юбок, узких блузок, летних платьев и подгонял под них длинноволосых темноглазых кукол, вдохнув в них подобие призрачной жизни, чтобы потом поставить их рядом с нами на улицах, в кафе и в вагонах метро. Он легко добивался успеха; многие из моих коллег не могли противиться искушениям; это было заметно по застывшему отчаянию на лицах, по судорожно сжатым губам, по сдавленному голосу. Некоторые то и дело исповедовались в греховных деяниях, помыслах и вожделениях и терзали своими признаниями любого, кто был готов их слушать. (За исключением отца Фасбиндера – он вышвыривал всякого, кто осмеливался прийти к нему с чем-то подобным.) Впрочем, это было лишь самое примитивное средство их тех, что использовал искуситель, он располагал куда более действенными и утонченными. Разве не он по каплям влил в сочинения Отцов Церкви эту скуку, поднимавшуюся над каждой страницей, как мельчайшие частицы тумана? Разве не он отяготил все окружающие предметы пустотой? Разве не он в любой церкви посадил за твоей спиной двух немилосердно фальшивящих столетних старух из церковного хора, в хрипении, кряхтении и каркании которых ты явственно различал: «Все бессмысленно, бессмысленно, бессмысленно»?
Да, я не слишком ладил со своими коллегами. Среди них были молодые монахи, носившие рясы и напоминавшие статистов в исторической драме. Другие притворялись прогрессивными, одевались примерно так же, как некогда отец Гудфройнт, и были особенно занудными. Некоторые хотели основать теократическое государство когда-нибудь в отдаленном будущем на каком-нибудь острове, затерянном в тропических морях. Кто-то собирался преподавать закон Божий, остальные мечтали стать приходскими священниками и освящать вертолеты, а по субботам играть в карты с бургомистром.
– Значит, вы полагаете, что достойны лучшего? – спросил отец Фасбиндер.
– Боюсь, что да.
– Высокомерие, Берхольм, – смертный грех.
– И как же мне с ним бороться?
– А вы и не хотите с ним бороться. Вы упиваетесь собственным высокомерием. В этом-то и грех. Налагаю на вас покаяние – сто пятьдесят раз прочесть «Отче наш». Всего хорошего.
Как ни странно, это помогало. Повторение молитв погружало сознание в какую-то туманную сонливость, постепенно слова утрачивали смысл, завораживая одним лишь ритмом. Несколько дней мой благодушный и ко всему безразличный ум дремал, но потом это прошло, и по ночам мне опять пришлось прибегать к помощи снотворного. К сожалению, я не очень-то умел молиться.
Поэтому у меня было достаточно времени для раздумий, непонятно о чем. Я жил в большом городе: меня окружали страдающие, борющиеся, счастливые, несчастные люди, жаждущие чего-то, что не имело ко мне отношения. Я был частью иного мира: мира математики, спасения души и вины. К чему искать примирения? Настанет день, и дома сгорят, трубный глас расколет небеса, города обратятся в пепел и порыв ветра погасит звезды…
Иногда, по ночам, когда пространство вокруг меня казалось особенно пустым и темным, а действие снотворного заставляло себя ждать, я ощущал в своем сознании тонкую щель. Тогда я ощупью искал выключатель, долго не мог его найти, наконец находил, садился в постели и не мог понять, который час и как я здесь оказался. Иногда мне казалось, что цветочный узор на обоях таит в себе скрытую угрозу, один раз (но только один) я поймал себя на том, что пытаюсь с ним заговорить. К тому же я так и не сумел отделаться от подозрения, что стоило мне закрыть глаза, как что-то рядом со мной открывало глаза. Что оно не сводило с меня взгляда, едва я засыпал…
И тут что-то произошло.
Два дня я был болен: сильный насморк, головная боль и, может быть – такие вещи обычно чувствуешь, – небольшая температура. И все-таки я пошел в магазин. Был душный день; только что прошел дождь, теперь светило солнце: лужи на земле поспешно силились испариться, и где-то, наполовину скрытая небоскребом, даже болталась в небе грязноватая радуга. Афиша была приклеена к стене дома возле булочной, в которой я только что купил пол буханки хлеба. (Мне становится не по себе при мысли: что бы со мною сталось, если бы я пошел за чем-нибудь другим, за колбасой или за ботинками? Судьба ли любит такие совпадения? Или мне было назначено пойти именно за хлебом?) Афиша была не больше обычного листа писчей бумаги, к тому же черно-белая и отпечатана без всяких ухищрений. Кто-то уже успел наклеить поверх нее другую, анонс гастролей какой-то поп-группы, но верхняя оторвалась, бессильно повисла и слегка трепетала на ветру. (А что если бы она не отклеилась? Это тоже было бы предопределением?) Именно свисающий и колеблемый ветром лист привлек мое внимание – он и тот, что был под ним. Я подошел ближе, еще немного рассеянно, затуманенный простудой. Чихнул и полез в карман за носовым платком. Потом прочитал:
Ян вон Родесообщает,что собираетсяпредставить вниманию публикинекоторые из своих искусств.
Внизу были указаны дата, время и адрес. Я прочитал афишу еще раз. И еще.
Так, значит, это он. Уже давно он только публиковал специальные труды, краткие, поистине блестящие статьи; выступал он редко и, как это было свойственно лишь ему, без предуведомления, словно бы появляясь ниоткуда. И вот теперь маленькая афиша, до того невзрачная… Все это было очень странно. Но как мне повезло!
Я взглянул на дату: выступление было назначено на сегодня. Сегодня вечером! (Конечно! К чему откладывать? Любые другие варианты были бы нелепы, тебе так не кажется?) Я записал, где и в котором часу он выступает, и ушел в страшном волнении. Только дома я вспомнил, что оставил на улице пакет с хлебом.