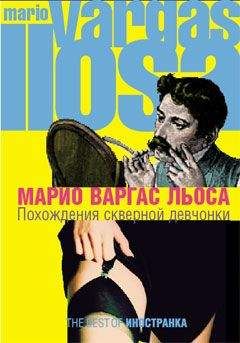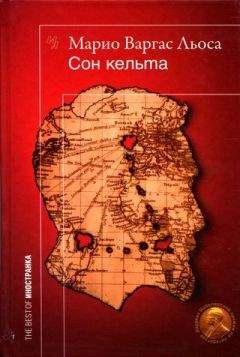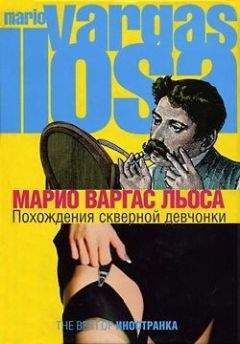— Что ты делаешь? Ты готов погубить себя из-за глупых сплетен, из-за того, что кучка бездельников, окопавшихся в Париже, называет тебя оппортунистом? Подумай хорошенько, Толстый, не будь идиотом!
— Мне нет никакого дела до того, что болтают здешние перуанцы. Речь не о них, речь обо мне самом. Это вопрос принципа. Мой долг быть там.
И он опять постарался обернуть все в шутку: мол, несмотря на свои сто двадцать кило, он успешно сдал все нормативы во время военных тренировок и к тому же показал отличные результаты по стрельбе. Его решение поехать в Перу стоило ему серьезных разговоров с Луисом де ла Пуэнте и руководством МИРа. Все хотят, чтобы он оставался в Европе и занимался связями с братскими организациями и правительствами, но он своего добился, он ведь как осел, если упрется, ничем не сдвинешь Спорить с ним было бесполезно, и мне стало ясно, что мой лучший парижский друг решил, если называть вещи своими именами, свести счеты с жизнью. Я лишь спросил, означает ли его отъезд, что восстание начнется со дня на день?
У них имелось три лагеря, разбитых в сьерре: один в департаменте Куско, второй в Пьюре, а третий в Центральном районе, на восточном склоне Кордильеры, в Хунине. Еще он добавил, что, вопреки моим прогнозам, большая часть тех, кто прошел обучение на Кубе, вернулась в Перу — они уже переправлены в Анды. Дезертиры составили меньше десяти процентов. С энтузиазмом, порой переходящим в эйфорию, он принялся рассказывать, что операция по переброске на родину обученных партизан прошла успешно. И он счастлив, потому что сам лично этим руководил. Возвращались по одному-два человека, сложными маршрутами, так что некоторым, чтобы замести следы, пришлось обогнуть весь земной шар. Никого не задержали. В Перу Лобатон и де ла Пуэнте с товарищами организовали городские вспомогательные сети, подготовили санитарные бригады, установили в лагерях радиостанции, а также устроили тайные склады боеприпасов и взрывчатых веществ. Связи с крестьянскими синдикатами, особенно в Куско, работают безупречно, и крепнет надежда, что, как только вспыхнет восстание, многие местные жители присоединятся к повстанцам. Он говорил весело, убежденно, веско, восторженно. А я не мог скрыть печали.
— Ладно, я ведь вижу, что ты во все это мало веришь, Фома неверный, — пробурчал он под конец.
— Клянусь, что больше всего на свете я хотел бы поверить тебе, Пауль. И почувствовать такой же азарт.
Он кивнул, глядя на меня с обычной своей сердечной улыбкой, сиявшей на лице, похожем на полную луну.
— Ну а ты? — спросил он, тронув меня за руку. — Как дела у тебя?
— У меня? Да никак, — ответил я. — Продолжаю работать переводчиком при ЮНЕСКО, здесь, в Париже. Ты, впрочем, это отлично знаешь…
Он чуть помялся, опасаясь, как бы слова, готовые вот-вот сорваться у него с языка, не слишком обидели меня. Этот вопрос, судя по всему, уже давно не давал ему покоя.
— И это все, что ты хочешь получить от жизни, Рикардо? Неужели тебе этого и вправду достаточно? Те, кто приезжает в Париж, мечтают стать художниками, писателями, музыкантами, актерами, театральными режиссерами, мечтают рисовать декорации или готовить революцию. А ты хочешь просто жить в Париже? Я, должен признаться, никогда не мог этого понять, старик.
— Знаю, заметил. Но это чистая правда, Пауль. Мальчишкой я говорил, что хочу стать дипломатом, но только для того, чтобы меня послали в Париж. Да, я хочу именно этого и только этого: жить здесь. На твой взгляд, слишком мало?
Я махнул рукой в сторону Люксембургского сада: пышные зеленые ветви пытались пробиться сквозь прутья ограды и на фоне хмурого неба выглядели очень живописно. Что еще нужно человеку? О чем еще можно мечтать? Жить, как пишет в одном своем стихотворении Вальехо,[19] среди «раскидистых парижских каштанов»…
— Ну признайся хотя бы, что ты втихаря пишешь стихи, — допытывался Пауль. — Что есть у тебя такой тайный порок. Знаешь, мы ведь часто обсуждали это с нашими перуанцами. Все уверены, что ты сочиняешь стихи, но никому не показываешь, потому что слишком критично к себе относишься. Или стесняешься. Ведь все до одного латиноамериканцы едут в Париж ради великих дел. Ни за что не поверю, что ты исключение из правила.
— Представь себе, я исключение. Могу на чем хочешь поклясться. У меня нет амбиций, просто хочу жить здесь, как живу сейчас. И все! Все!
Я проводил его до станции метро «Одеон». Мы обнялись на прощание, и я не смог сдержать слез.
— Береги себя, Толстый. И не делай глупостей там, наверху.
— Да, да, конечно, никаких глупостей, обещаю, Рикардо. — Мы еще раз обнялись. И я заметил, что и у него тоже глаза на мокром месте.
После отъезда толстяка Пауля в моей жизни образовалась пустота, ведь он был для меня настоящим товарищем с тех трудных времен, когда я еще только пытался обосноваться в Париже. К счастью, работа в ЮНЕСКО и уроки русского языка, а также курсы синхронного перевода почти не оставляли мне свободных минут, и к ночи я еле доползал до своей мансарды в «Отель дю Сена», так что сил на размышления о товарище Арлетте или Пауле просто не было. И приблизительно с тех же самых пор я стал мало-помалу, словно ненароком, отдаляться от парижских перуанцев, с которыми прежде встречался довольно регулярно. Я не искал одиночества, но и не страшился его после того, как остался сиротой и тетя Альберта взяла меня под свою опеку. Благодаря службе в ЮНЕСКО я уже не думал о том, как свести концы с концами, зарплаты переводчика и денег, что иногда присылала тетка, вполне хватало на жизнь и парижские развлечения: кино, выставки, театр и книги. Я стал завсегдатаем книжного магазина «Lajoie de Lire»[20] на улице Сен-Северин и постоянным клиентом букинистов с набережной Сены. Ходил в театры — ТНП, «Комеди Франсез», «Одеон» — и время от времени на концерты в зал «Плейель».
Тогда же у меня завязалось что-то вроде романа с Карменситой, той самой испанкой, что на манер Жюльетт Греко одевалась с головы до ног в черное и пела, аккомпанируя себе на гитаре, в крошечном баре «Эскаль» на улице Месье-ле-Пренс, куда стекались испанцы и южноамериканцы. Она была испанкой, но никогда не бывала в Испании, потому что ее родители-республиканцы не могли или не желали возвращаться на родину, покуда жив Франко. Такое двусмысленное положение терзало ее, и она часто заводила со мной разговор на эту тему. Карменсита была высокой, стройной, с печальными глазами и стрижкой «под мальчика». Голос у нее не отличался особой силой, но был певучим, и еще она чудесно декламировала, почти шепотом — с эффектными паузами и большим пафосом — положенные на музыку стихи и легенды испанского Золотого века. Два года она жила с каким-то актером и разрыв восприняла очень болезненно. Во всяком случае, мне она сказала с резкой прямотой, которая поначалу так поражала меня в испанцах, коллегах по ЮНЕСКО: «Пока я больше не хочу связываться с мужиками». Но приглашения мои принимала, и мы ходили в кино или ресторан, а однажды отправились в «Олимпию» слушать Лео Ферре, которого оба любили больше, чем очень модных тогда Шарля Азнавура и Жоржа Брассанса. Когда после концерта мы прощались в метро, она легко коснулась губами моих губ и сказала: «А ты начинаешь мне нравиться, перуанец». Как это ни абсурдно звучит, но всякий раз, когда я отправлялся куда-нибудь с Карменситой, меня терзало неприятное беспокойство — словно я изменяю любовнице команданте Чакона, которого воображал себе мужчиной с большими усами, ходящим вразвалочку, с парой огромных пистолетов — по одному на каждом боку. Но отношения наши с испанкой далеко не продвинулись, потому что однажды вечером я застал ее в темном углу бара «Эскаль» в объятиях одетого в пончо господина с бакенбардами.
Через несколько месяцев после отъезда Пауля господин Шарнез стал рекомендовать меня, если я не был загружен в ЮНЕСКО, для работы переводчиком на международных конференциях и конгрессах, причем не только в Париже, но и в других европейских городах. Первый из таких контрактов — совещание в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене, второй — международная конференция по хлопку в Афинах. Поездки были недолгими, обычно на несколько дней, но они хорошо оплачивались и давали шанс повидать места, куда иначе я никогда бы не попал. Правда, из-за дополнительных контрактов у меня оставалось гораздо меньше свободного времени, но тем не менее я не бросил заниматься русским и ходить на курсы синхронного перевода, просто теперь делал это с перерывами.
Однажды, вернувшись из такой короткой поездки — на сей раз в Глазго, на конференцию по таможенным тарифам в Европе, — я нашел в «Отель дю Сена» письмо от двоюродного брата моего отца, доктора Атаульфо Ламиеля, работавшего в Лиме адвокатом. Так вот, двоюродный дядя, с которым я был едва знаком, сообщал, что тетя Альберта умерла от воспаления легких и сделала меня единственным своим наследником. Мне нужно непременно приехать в Лиму, чтобы ускорить оформление документов и вступить в права наследования. Дядя Атаульфо был готов купить мне билет на самолет — в счет будущего наследства, которое, по его словам, не сделает меня миллионером, но тем не менее станет хорошим подспорьем в моей парижской жизни. Я пошел в почтовое отделение «Вожирар» и послал ему телеграмму с извещением, что билет куплю себе сам и в Лиме буду в ближайшее время.