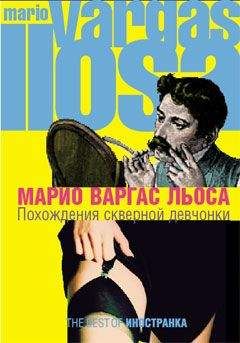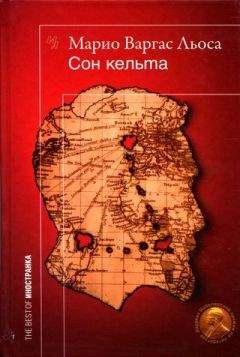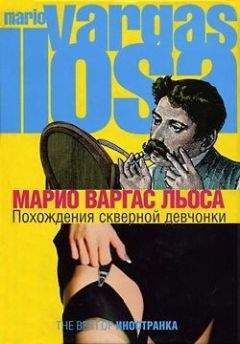Не знай я так хорошо честность, которой буквально дышало все его существо, решил бы, что он преувеличивает, желая пустить мне пыль в глаза. Ну как такое возможно? Чтобы перуанец из Парижа, еще недавно служивший помощником на кухне в «Прекрасной Мексике», вдруг стал заметной фигурой среди революционного джет-сета, летал за океан и запросто встречался с первыми лицами Китая, Кубы, Вьетнама, Египта, Северной Кореи, Ливии, Индонезии? Но все это было чистейшей правдой. Из таких вот причудливых переплетений чьих-то интересов, разных обстоятельств и случайностей, собственно, и состоит революция. И Пауль превратился в политического деятеля международного уровня. В чем я сам убедился, когда в 1962 году журналисты подняли переполох в связи с покушением на жизнь лидера марокканской революции Бен Барки[18] по прозвищу Динамо, которого потом, три года спустя, в октябре 1965-го, похитили: он бесследно исчез, выйдя из ресторана «Липп» на Сен-Жермен-де-Пре. В полдень Пауль забежал за мной в ЮНЕСКО, мы пошли в кафе и заказали сэндвичи. Он был бледен, под глазами залегли черные круги, говорил срывающимся голосом. Никогда прежде я не видел его таким взвинченным. Бен Барка возглавлял Международный конгресс революционных сил, в руководство которого входил и Пауль. Они часто встречались и в последнее время вместе разъезжали по миру. Покушение на Бен Барку наверняка было делом рук ЦРУ, то есть теперь и МИР не мог чувствовать себя в Париже в безопасности. Пауль попросил меня на несколько дней спрятать у себя в мансарде пару чемоданов, пока не подыщут надежное место.
— Я бы не стал обращаться к тебе с подобной просьбой, Рикардо, но у меня нет выбора. Если ты скажешь «нет», я не обижусь…
Я согласился помочь, но при одном условии: он скажет, что в чемоданах.
— В первом — бумаги. Это почище динамита: планы, адреса, подробные разработки акций в Перу. Во втором — доллары.
— Сколько?
— Пятьдесят тысяч. Я на миг задумался. А как по-твоему, если я возьму да передам чемоданы в ЦРУ, пятьдесят тысяч достанутся мне?
— Обещаю, что после победы нашей революции мы назначим тебя послом при ЮНЕСКО, — подхватил шутку Пауль.
Мы еще немного подурачились, а вечером он действительно принес два чемодана и запихнул под кровать. Потом целую неделю я не находил себе места, зациклившись на том, что, если в мансарду заберутся грабители и украдут эти деньги, МИР ни за что не поверит в кражу, и революционеры мне отомстят. На шестой день Пауль пришел с тремя незнакомцами, и они избавили меня от столь обременительных постояльцев.
При каждой нашей встрече я спрашивал его про товарища Арлетту, и он ни разу не попытался обмануть меня, что-нибудь присочинив. Очень жаль, говорил он, но узнать ничего не удается. Кубинцы чрезвычайно строго соблюдают правила безопасности, и сведения о ее местонахождении выудить просто невозможно. Абсолютно уверен он только в одном: до сих пор через Париж она не проезжала, потому что всех, кто отправляется с Кубы в Перу, Пауль держит на заметке.
— Уж поверь мне, когда она появится, ты первым об этом узнаешь. Неужто девчонка так тебя зацепила? Только вот чем, старик? Вроде не такая уж она и хорошенькая…
— Сам не знаю чем, Пауль. Но, по правде сказать, зацепила крепко, да, крепко.
После того как жизнь Пауля переменила русло, среди осевших в Париже перуанцев поползли недобрые слухи. Писатели, которые не пишут, художники, которые не берут в руки кисти, музыканты, которые не играют и не сочиняют песен, а также революционеры, обосновавшиеся в кафе, — все они, чья жизнь не задалась, злобствовали, завидовали и томились от скуки. Их мнение было таким: Пауль «обюрократился», превратился в «чиновника от революции». Что он делает в Париже? Почему сидит здесь, а не едет на родину вместе с теми ребятами, которых сперва переправляет в тренировочные лагеря, а затем тайком перебрасывает в Перу, чтобы они начинали партизанскую войну в Андах? Во время таких разговоров я всегда вставал на его защиту, потому что знал наверняка, что, несмотря на свое новое положение, Пауль по-прежнему живет очень скромно. До самого недавнего времени его жена убирала чужие дома, чтобы семья могла хоть как-то сводить концы с концами. Теперь, пользуясь тем, что у нее есть испанский паспорт, МИР отвел ей роль курьера, и она часто летала в Перу, сопровождая возвращавшихся на родину бойцов или доставляя деньги и инструкции. И Пауль сильно за нее тревожился. С другой стороны, он сам признавался, что его с каждым днем все больше раздражает тот образ жизни, который в силу обстоятельств ему приходится вести и который по воле его начальника Луиса де ла Пуэнте Уседы придется вести и впредь. Он рвался в Перу, где вот-вот должны начаться настоящие сражения. И хотел непосредственно, на месте, участвовать в их подготовке. Однако руководство МИРа не давало на это согласия. Пауль нервничал. «Вот к чему приводит знание языков, черт бы их побрал!» — кричал он и, вопреки дурному настроению, не мог удержаться от смеха.
Благодаря Паулю в эти месяцы и годы парижской жизни я познакомился с самой верхушкой МИРа, начиная с его лидера и основателя Луиса де ла Пуэнте Уседы и кончая Гильермо Лобатоном. Луис родился в 1926 году, был адвокатом в Трухильо, откололся от Апристской партии. Это был худой и тощий очкарик со светлой кожей и светлыми волосами, которые он всегда гладко зачесывал назад, подражая аргентинским актерам. В те два или три раза, что я с ним виделся, он был одет очень строго — галстук, коричневая кожаная куртка. Говорил вкрадчиво, как адвокат при исполнении своих обязанностей, давал юридические пояснения на ясном и отточенном языке, свойственном хорошо образованному специалисту. Рядом с ним непременно находились два-три дюжих молодца, которые, надо полагать, служили ему телохранителями, они, кстати, глядели на него с большим почтением и никогда не открывали рта. Во всем, что он говорил, было слишком много головного, умственного, и я с трудом воображал его в Андах в роли партизана с винтовкой на плече, карабкающегося по скалам. Тем не менее он несколько раз сидел в тюрьме, был выслан в Мексику, жил в подполье. Но впечатление производил такое, будто рожден чтобы блистать на трибунах, или в парламенте, или на политических переговорах — то есть в тех ипостасях, которые он и его товарищи презирали, относя к издержкам буржуазной демократии.
Совсем другое дело — Гильермо Лобатон. Никто из толпы революционеров, с которыми я познакомился в Париже, не мог, на мой взгляд, сравниться с ним в уме, образованности и смелости. Он был еще довольно молод, ему едва перевалило за тридцать, но за плечами у него уже имелся богатый опыт настоящей борьбы. В 1952 году он руководил большой забастовкой в университете Сан-Маркос, направленной против диктатуры Одриа (тогда-то они и подружились с Паулем), за что его арестовали, отправили в «Эль-Фронтон» и пытали. На этом, кстати, прервалось его изучение философии, хотя, как в те годы поговаривали в Сан-Маркосе, он на равных соперничал с Ли Каррильо, будущим учеником Хайдеггера, за звание самого блестящего студента на факультете. В 1954 году военное правительство выслало его из страны, и после тысячи злоключений он добрался до Парижа, где возобновил занятия философией, но теперь уже в Сорбонне, хотя ему и приходилось собственными руками зарабатывать себе на жизнь. Компартия добилась для него стипендии в Восточной Германии, и он отправился доучиваться в Лейпциг, в школу партийных кадров. Там узнал, что на Кубе произошла революция. Кубинские события заставили его всерьез и весьма критически переосмыслить стратегию латиноамериканских компартий и помогли осознать догматический характер сталинизма. Еще до знакомства с ним я прочел одну его работу, которая ходила по Парижу отпечатанной на ротаторе: он обвинял эти партии в отрыве от масс, в том, что они пляшут под дудку Москвы, забыв о том, что, как писал Че Гевара, «главный долг революционера — делать революцию». В той же работе он восхвалял Фиделя Кастро и его товарищей и провозглашал их образцовыми революционерами. Была там и цитата из Троцкого. За эту цитату ему устроили в Лейпциге дисциплинарный суд и с позором выслали из Восточной Германии, потом исключили из Компартии Перу. Так он снова оказался в Париже, где женился на француженке Жаклин, тоже активной революционерке. Здесь он встретился с Паулем, старым приятелем по Сан-Маркосу, и вступил в ряды МИРа. Он прошел военную подготовку на Кубе и считал часы до возвращения в Перу, чтобы перейти наконец к активным действиям. В дни, когда американцы вторглись на Кубу в бухте Кочинос, он умудрялся участвовать разом во всех манифестациях солидарности с Кубой и выступал на митингах — на хорошем французском, пользуясь сокрушительными ораторскими приемами.
Он был худощав и высок, с кожей цвета светлого эбенового дерева, улыбаясь, показывал прекрасные зубы. Он мог не только часами, и при этом очень умно, спорить на политические темы, но и с жаром рассуждал о литературе, искусстве или спорте, особенно о футболе и подвигах любимой команды «Альянса Лима». В манерах и поведении Лобатона было что-то такое, благодаря чему люди заражались его энтузиазмом, идеализмом, бескорыстием и обостренным чувством справедливости, коим он неукоснительно руководствовался в жизни, и, надо сказать, ничего подобного — во всяком случае, в столь чистом виде — я, кажется, не обнаружил ни в одном из революционеров, прошедших через Париж в шестидесятые годы. То, что он с готовностью согласился бы на роль даже рядового члена МИРа, хотя в этой организации не было никого, кто мог бы сравниться с ним талантом и харизмой, говорило о бескорыстии его революционных помыслов. Я беседовал с ним всего два или три раза, но и этого оказалось достаточно, чтобы, при всем моем скептицизме, поверить: уж если столь блестящие и талантливые люди, как Лобатон, встали во главе движения, то Перу и вправду может превратиться во вторую Кубу.