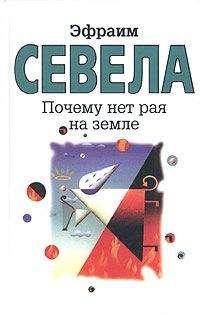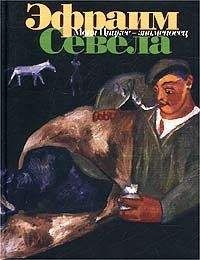Вот тогда-то мне впервые привелось принимать страшное решение, резать по живому мясу. Вдвоем спастись не представлялось никакой возможности. Но лучше пусть спасется один, чем никто. Это разумно, хотя и жутко. Лии легче не станет от того, что я умру вместе с ней.
Так я размышлял теперь, уже взрослым человеком. Но, насколько мне память не изменяет, нечто подобное проносилось в моей зачумленной головенке и тогда, хотя и в иной форме, в других выражениях.
Я решил прыгать один. Единственное, чего мне остро, мучительно хотелось, — увидеть на прощание мою сестренку. Ее заплетенные мамой косички и зареванные, опухшие от слез глазки. Сколько я ни тянул шею, разглядеть за чужими руками и плечами Лию мне не удалось.
На следующем повороте я высунулся из-под брезента и перевалился всем телом через борт. Домов здесь не было. Вдоль дороги тянулись невысокие кусты, а за ними — поле. Безлюдно. И это было весьма кстати. Потому что время приближалось к полудню, и для прохожего заметить выпавшего из автомобиля мальчишку не составляло большого труда.
Удар о землю оказался не таким болезненным, как я предполагал. Накануне прошел дождь, и почва была мягкой и вязкой. Боком и щекой проехался я по глинистому краю придорожной канавы, слегка разодрав локоть и колено. Только и всего. Даже кровь не выступила. Та кровь, которую должны были изъять у меня и перелить моим злейшим врагам — раненым немецким солдатам.
Я отполз подальше от дороги, за кусты, сел и огляделся вокруг. Местность тут была холмистая, и на склонах холмов перемежались прямоугольники полей, полосы кустарника на межах и по два-три дерева вокруг одиноких домиков с сараями-крестьянских хуторов. О том, чтобы пойти к ближнему хутору и постучать в дверь, я и не помышлял. Я был городским мальчиком и деревенских людей всегда сторонился. Уж слишком их уклад жизни отличался от нашего. Крестьяне всегда мне казались угрюмыми, диковатыми людьми, как недобрые персонажи из детских сказок. Вроде рыжего Антанаса, сопровождающего грузовик с консервированной кровью и сейчас не подозревающего, что один сосуд с такой кровью он по дороге потерял. Зато у него остался другой сосуд, по имени Лия. При воспоминании о Лии у меня заныло в груди и защипало в глазах: вот-вот зареву. Я тут же переключился в уме на маму. Как там она сейчас в гетто? Бьется головой о стенку, потеряв сразу обоих детей. И не знает, что один ребенок, то есть я, спасся и находится совсем близко от нее. Отсюда до гетто в Вилиямполе можно пешком дойти за два часа.
Но в гетто я не пойду. Жизнь сделала меня мудрым. Я кожей чуял, где меня поджидает опасность. Точь-в-точь как дикий зверек. Я знал, что из гетто стараются убежать, но никто туда не возвращается по своей воле. А лишь под конвоем. Из гетто одна дорога — к смерти. Туда я не пойду, хоть там сейчас плачет навзрыд моя мама. Какое утешение я ей принесу? Что не спас маленькую Лию и сам вернулся к маме, чтобы умереть вместе с ней?
На хуторах мычали, перекликаясь, коровы. От их мычания пахло молоком, и мне еще больше захотелось есть. Но там же полаивали собаки. А собак я боялся больше, чем голода. И окончательно отказался от мысли попытать счастья по хуторам.
Осталось одно: вернуться в город. Каунас большой город, столица Литвы. Там много улиц и переулков, в которых можно затеряться, как иголке в стоге сена, и никто тебя не обнаружит. Наконец, в Каунасе, на Зеленой горе, за голубым палисадником, среди кустов сирени и черемуховых деревьев, высится цинковой крышей двухэтажный домик с кирпичной дымоходной трубой, на кончике которой стоит закопченный железный флюгер в виде черного парусника. Этот флюгер привез мой отец из Клайпеды, с Балтийского побережья, куда в мирное время мы ездили купаться в море, и я отчетливо помню, как рабочие забрались на крышу и установили его на трубе.
— К счастью, хозяин, — сказали они, когда отец с ними щедро расплатился и даже вынес по рюмке водки.
Откуда им было знать, что скоро кончится мирное время и нас выгонят из дома, запрут в гетто, а потом меня с Лией заберут у матери и увезут неизвестно куда, а я по дороге спрыгну с машины и буду сидеть в кустах, не зная, куда податься.
Наш дом на Зеленой горе остался для меня единственным ориентиром в городе. Я не знал, пустует он или занят новыми жильцами, цел он или сгорел — пока мы жили в гетто, в городе было много пожаров. Я знал, что мне больше некуда идти.
Чтобы добраться до района Зеленой горы, нужно было прежде всего дойти до города. А путь туда пересекала река Неман с большим железным мостом. Пройти мост незамеченным было невозможно: его охраняли с обеих сторон немецкие солдаты. За рекой начиналась нижняя часть города — центр Каунаса с многолюдными улицами, где мое появление привлекло бы внимание. В Каунасе не осталось ни одного еврея на свободе, а мое лицо не оставляло никаких сомнений по поводу моего происхождения. Первый же литовец-полицейский схватит меня и препроводит в Вилиямполе, в гетто.
Дорога оставалась почти безлюдной. Иногда прошмыгнет грузовой автомобиль, а чаще протрусит рысцой крестьянская лошадка с телегой и с пьяными, напевающими песни седоками. По соседству в местечке был базар, но на своем пути к городу я обошел это местечко стороной, хотя гомон базара явственно доносился до моих ушей. Базар подсказал мне счастливую мысль: как объяснить свое путешествие пешком в Каунас. Я заблудился, мол, на базаре, родители потеряли меня в толпе, и сейчас один возвращался домой. Такое объяснение выглядело правдоподобным. Если бы… если бы не мое еврейское лицо.
До самого подхода к городу никто меня не остановил. Крестьяне проезжали на телегах, не очень-то интересуясь, что за мальчик бредет по обочине дороги. Пешие вообще не попадались. Если не считать маленькой колонны немецких солдат, без винтовок и касок шагавших из города. Их я пропустил, отойдя от дороги и укрывшись, лежа в высокой траве. Я шел к городу с холмов, и весь Каунас открывался передо мной в низине. Посверкивало зеркало реки — по ней буксиры тянули баржи, и дальше полз большой плот из бревен. На плоту был деревянный домик с трубой, и из трубы тонкой струйкой шел дым.
Два моста повисли над Неманом. Тот, к которому я шел, и второй, железнодорожный, пустой в это время. А мой мост был забит телегами и автомобилями, и с высоты они казались игрушечными. Как и сам мост. И вся панорама города. С тонкими фабричными трубами в Шанцах, с широкой и прямой стрелой центрального проспекта — Лайсвес алеяс (Аллея свободы). Этот проспект мне тоже предстояло пересечь.
Дальше, еще через несколько улиц, город обрывался, упершись в песчаные обрывы Зеленой горы. Маленький вагончик фуникулера карабкался по рельсам, влекомый вверх стальным канатом, а навстречу ему сползал вниз другой вагончик-близнец. Это и был путь к моему дому. Зеленая гора кудрявилась садами, за ними проглядывали уютные домики-особняки. Один из них прежде был нашим.
К мосту я спустился без помех. В пестром и шумном потоке телег и пешеходов. Въезд на мост преграждал полосатый шлагбаум. Солдаты осматривали каждую телегу, пеших пропускали не останавливая. Лишь у вызывавших подозрение требовали показать документы. Из-за этого перед мостом образовался затор. Кони и люди, сбившись в кучу, ждали своей очереди нырнуть под шлагбаум. Это напоминало базар. На телегах визжали в мешках поросята, кудахтали и били крыльями связанные за лапы куры, ржали кони. Жеребята на тонких ножках, пользуясь остановкой, залезали под оглобли и тыкались мордочками кобылам в живот. При виде сосущих жеребят мне еще острей захотелось есть.
Шлагбаум с немецкими солдатами был первым барьером на моем пути к дому. Фигурка мальчишки, одного, без провожатых идущего пешком через мост в город, да еще с таким еврейским лицом, даже у самого тупого солдата должна вызвать подозрение.
Безо всякой надежды рыскал я глазами по толпе. Ни одно лицо, на которое натыкался мой взгляд, не вызывало доверия. Все казались мне чужими и злыми.
И вдруг я увидел сбоку от дороги ксендза. В черной запыленной сутане. Тоже пришедшего к мосту пешком. И видно, издалека. Кзендз был стар, тучен и потому устал. Он присел на край бревна, положил рядом шляпу, обнажив лысую голову с капельками пота на розовой коже. Поставил на колени толстый, раздутый портфель, достал из него завернутый в бумагу бутерброд, развернул промаслившуюся бумагу и постелил ее рядом на бревне. Потом вынул из портфеля яйцо, осторожно разбил его о кору бревна, очистил от шелухи, шелуху аккуратно собрал в ладонь и высыпал обратно в портфель. Затем стал есть. Надкусит крутое яйцо, отщипнет от бутерброда и жует беззубым ртом, отчего его лицо сморщивалось и раздвигалось, как меха у гармоники.
Я и не заметил, как очутился перед ксендзом и застыл, завороженно следя за каждым куском, который он отправлял в рот, медленно прожевывал, а затем глотал. Со стороны я, должно быть, был похож на голодного щенка, впившегося взглядом в кушающего человека и не отваживающегося попросить и себе кусочек. Единственное, что меня отличало от такого щенка, это то, что я не повиливал хвостиком. Потому что хвостика у меня не было.