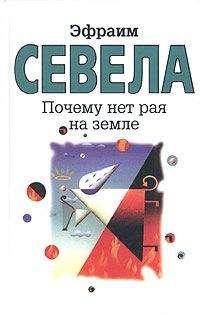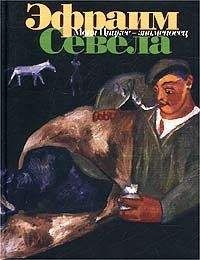Я и не заметил, как очутился перед ксендзом и застыл, завороженно следя за каждым куском, который он отправлял в рот, медленно прожевывал, а затем глотал. Со стороны я, должно быть, был похож на голодного щенка, впившегося взглядом в кушающего человека и не отваживающегося попросить и себе кусочек. Единственное, что меня отличало от такого щенка, это то, что я не повиливал хвостиком. Потому что хвостика у меня не было.
Зато был пустой голодный желудок, который болезненно сжимался и урчал, и мне кажется, что старый ксендз был туговат на ухо и навряд ли что-нибудь расслышал. Зато разглядеть меня
— разглядел. И в первую очередь мою еврейскую рожицу.
Ксендз перестал жевать. Пальцем поманил к себе. Я приблизился. Он еще ближе подозвал. Пока я не стал у его колен, обтянутых черной сутаной.
— Что ты тут делаешь? — спросил он, прищурив на меня красноватые слезящиеся глаза.
— Иду домой, — тихо ответил я.
— Один?
Я без запинки рассказал ему придуманную, когда я сидел в кустах, историю о том, что приехал с родителями на базар в местечко, но там мы потеряли друг друга из виду. Они, не найдя меня, должно быть, уехали домой и теперь наверняка ждут не дождутся, когда я вернусь. И для большей достоверности добавил:
— Мама, наверное, плачет.
Ничто не шевельнулось на красном от солнца и подкожных прожилок лице ксендза. Рыжие ресницы прикрыли глаза, словно ему было стыдно глядеть на меня и выслушивать такую ложь.
Ксендз ничего не сказал, а только спросил:
— Ты, должно быть, голоден?
— Да, — чуть не взвизгнул я и захлебнулся наполнившей рот голодной слюной.
— Тогда садись. Подкрепись, чем Бог послал.
Он снял с бревна свою шляпу, нахлобучил на голову и глазами показал, что освободил место для меня. Я тут же присел на корявое бревно и положил руки на колени. Ладонями вверх. Чтобы взять пищу.
Ксендз снова полез в свой пухлый портфель и извлек кусок белого запотевшего сала. Свиного сала. В нашем доме никогда не ели свинины, и мы оба, и я и Лия, знали, что если хоть раз мы попробуем эту гадость, то нас обязательно стошнит, а потом могут быть самые страшные последствия. От нас отвернется наш Бог, и мы станем самыми несчастными на земле.
Ксендз раскрыл перочинный ножик и сверкающим лезвием стал отрезать ломтики сала. При этом он испытующе покосился на меня. Мне было ясно, что если я откажусь от его угощения, он сразу поймет, кто я, и если не сдаст в полицию, то по крайней мере постарается отвязаться от меня. За укрывательство евреев христианам грозили большие неприятности. Вплоть до расстрела. Немцы и ксендза, если он нарушит приказ, не пощадят. В гетто я слыхал разговоры взрослых, что под Каунасом публично повесили священника за то, что прятал у себя в погребе еврейскую семью. Евреев, конечно, убили тоже.
От меня отвернется наш Бог, если я оскверню уста свои свининой, и я стану самым несчастным человеком на земле, — рассуждал я, не сводя глаз с блестящего лезвия ножика, вонзающегося в белое мягкое сало. А разве я уже не самый несчастный на земле? Разве мой Бог заступился за меня? За мою сестренку Лию? За маму? Я оскверню уста, но, возможно, останусь жив.
Ксендз протянул мне ломоть свежего ржаного хлеба, от запаха которого у меня закружилась голова. На хлебе лежали длинные белые дольки сала. Я схватил хлеб обеими руками и стал запихивать в рот, захлебываясь от потока слюны.
— Не спеши, — сказал ксендз. — Подавишься.
От сала меня не стошнило. Я проглотил все с такой скоростью, что даже не разобрал вкуса. Потом облизал ладони, на которых прилипли хлебные крошки.
Ксендз дал мне еще один кусок хлеба, но уже без сала, а с очищенным от шелухи яйцом. Яйцо, прежде чем дать мне, он посыпал солью из бумажного кулька.
Ксендз спросил, где я живу, и, когда я назвал Зеленую гору, он покачал головой:
— Далеко добираться. Сам не дойдешь.
Я так и не понял, что он имел в виду. То ли что у меня не хватит силенок на такой дальний путь, то ли мою внешность, которая могла помешать мне пересечь город по людным улицам.
— Пойдем вместе, — сказал он вставая. — Нам по пути.
Я, не раздумывая, а так, словно иначе и быть не могло, протянул ему руку, и он взял ее в свою мягкую влажную ладонь. В другой руке он понес портфель.
Крестьяне уважительно посторонились, пропуская священника к мосту. Я не отставал. Под шлагбаумом немец в пилотке и с винтовкой за спиной даже козырнул ксендзу и пропустил нас, на какой-то миг задержав удивленный взгляд на мне. Дальше стоял литовец-полицейский. Его я боялся больше всего и шел не поднимая глаз. Он даже присел, чтобы лучше разглядеть меня.
— Он с вами? — недоуменно спросил он.
— Со мной… Разве не видишь? — рассердился ксендз и, дернув меня за руку, прошел мимо озадаченного полицейского.
Под нашими ногами пружинил и гудел мост. Далеко внизу серебрился Неман, и тот плот, что я видел, подходя к реке, все еще полз по ней, и из бревенчатого домика на нем валил из трубы в небо дым — плотогоны готовили обед. На телегах, что ехали по мосту, обгоняя нас, люди тоже жевали, пили из бутылок, громко смеялись. Кругом была жизнь! И никому не было дела, что этим утром из их города увезли на смерть маленьких детей, и с ними мою сестренку Лию, что я остался один-одинешенек и что, если меня не поймает полиция, я все равно умру с голоду.
Но моя рука лежала в чужой руке, и этой руке было дело до меня. Эта рука меня накормила, правда осквернив мои уста, и теперь вела через Неман в город, где я не знал, что меня ждет.
Мы благополучно миновали мост, шли по улицам, вызывая удивленные взгляды прохожих при виде такой необычной пары: старого католического ксендза с нахмуренным сосредоточенным лицом, ведущего за руку еврейского мальчика. Но никто нас не остановил. Никто не пошел за нами. Мы пересекли центральную улицу — Лайсвес алеяс, и здесь ксендз присел на скамью передохнуть.
— Не проголодался? — спросил он, обтирая носовым платком розовую лысину.
Я покачал головой, но сказал, что хочу пить.
— Потерпи, — сказал он.
Отдохнув, он встал со скамьи, мы пошли дальше. Он подвел меня к киоску, где продавали газированную воду, и заказал два стакана. Один без сиропа для себя. Другой с розовым сладким сиропом мне. Пузырьки газа, щекоча, ударили мне в нос, сладость сиропа потекла по языку, и мне стало так хорошо, что я на миг позабыл о том, где я и что со мной. Мне показалось, что мой папа протянул мне этот стакан, а второй берет у продавца для Лии. Ей он заказал двойную порцию сиропа. Потому что ее любят в семье, а меня…
Мои грезы оборвал ксендз, взяв из моей руки пустой стакан. Он заплатил, и мы двинулись дальше.
А дальше был фуникулер. Он купил билеты, и мы сели в вагончик на скамью. А напротив нас сели немецкие солдаты и уставились на меня. Они смотрели на нас, потом друг на друга, потом снова на нас. Кондуктор, старая женщина в платке и с кожаной сумкой через плечо, прежде чем захлопнуть двери вагона, спросила ксендза:
— Он с вами?
А с кем же еще?
Она ничего не сказала и захлопнула дверцы. Вагончик дернулся, заскрипел канат, и нас повлекло вверх по крутому склону Зеленой горы.
Немецкие солдаты смотрели на нас, а я смотрел поверх их голов в стекло, за которым уплывал вниз город. Уже вечерело. И на Лайсвес алеяс зажглись фонари. Другие улицы, неосвещенные, погружались в темноту.
На самом верху вагончик, дернувшись, остановился, двери открылись, и немецкие солдаты, галдя и жестикулируя, пропустили ксендза со мной вперед. Потом шли за нами, что-то горячо обсуждая по-немецки, и я замирал при мысли, что они укажут первому же патрулю на меня.
На углу солдаты неожиданно свернули, а мы пошли прямо. Мне показалось, что ксендз облегченно вздохнул. А уж я чуть не запрыгал от радости. Здесь каждый дом был мне знаком. Каждое дерево у тротуара. А вот и наш дом показался. Я узнаю его по флюгеру в виде парусника на трубе. Флюгер отчетливо виднелся на фоне вечернего неба. А в доме горели огни. В окнах светло. Там живут незнакомые мне люди. И ксендз ведет меня к ним. Радость, поначалу охватившая меня, сразу улетучилась.
За палисадником в кустах звякнула цепь, и раздался радостный лай. Сильва, наша Сильва была жива и первой узнала меня. Она прыгнула передними лапами на край палисадника, я рванулся к ней, и что-то теплое и шершавое полоснуло по моему лицу. Сильва лизнула меня и, окончательно узнав, взвыла. Она скулила, визжала, стоя на задних лапах, и напоминала в этой позе человека, который очень-очень соскучился по кому-то. Этим кем-то был я. Единственным существом, которое продолжало меня любить и не боялось проявить свои чувства, была собака. Она, бедная, не знала, что я еврей и что евреев любить строго, вплоть до расстрела, возбраняется.
На крыльце лязгнул железный засов, и дверь раскрылась. На пороге стоял высокий плечистый мужчина, освещенный изнутри, из прихожей, и поэтому лицо его разглядеть было трудно, мы с ксендзом видели лишь его темный силуэт.