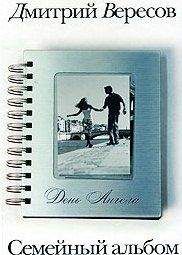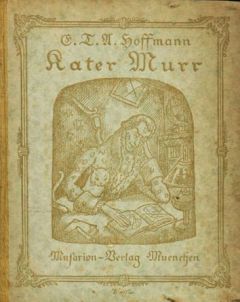— Нет, это не дело, — сказала Инна сама себе, хотя собеседница у нее имелась — Ассоль, а если по-настоящему — Аська Солодова, что жила двумя этажами выше и спустилась со своих высот, чтобы не пить в одиночестве. А иначе какой праздник? Никакого, только лечение горькое и бесполезное.
— Инесса, давай лучше «Пролетарочку», — жалобно востребовала Аська и наплескала себе еще «Скобаря» (уже из второй поллитровочки) половину в рюмку, половину (грех сказать) на стол, потому что была тепленькая-тепленькая. — «Пролетарочка» чувствительная, все как в жизни, хоть сериал по ней снимай, а «Сова» твоя страшная и вообще не поймешь что такое, а не песня. Ворожба какая-то черным-черная.
И Аська запела, если можно назвать пением протяжные звуки, воспроизводимые всю жизнь пьяной женщиной. Начала Аська не совсем с начала, потому что начало, оказывается, без следа растворилось в водочке, и не выпаривать же было его, начало это самое, как соль морскую:
Эх, на заводе том была парочка:
Он был слесарь, рабочий простой,
А она была пролетарочка,
Поражала своей красотой.
А она была…
— Не дело это, — повторила Инна, будто не слышала Аськиного пения, и подкрутила слоновой кости колки, все в благородных трещинках и темных щербинках. Прошлась по грифу, пощипала струны, проверяя настрой, допила из своей рюмки и, совсем наплевав на Аську, продолжила про сову. — Я — сова-а. Я — сова, — повторила Инна и на один задумчивый момент, чтобы ушли в небытие все звуки в округе, чтобы Вселенная остановила на мгновение свою круговерть, прикрыла ладонью струны, а потом, когда перестала слышать, как нестройно голосит бренный мир за окном и внутри дома, запела:
Пусть не лгут, пусть не лгут
человечьи слова,
что хороший приют —
человечий приют.
Клетка мучит меня,
все леса — для меня.
Я — сова.
— Инесса, не трави душу. «Пролетарочку»! — умоляла Ассоль, которая терпеть не могла такого Инниного настроения: все начиналось с «Совы», а заканчивалось тем, что Аську надолго выставляли и на порог не пускали, и не с кем было душевно посидеть. Но, похоже, на Инессу накатило всерьез, потому что Аськи она не видела и не слышала, а сидела сосредоточенная, словно собралась прыгать через горящее кольцо, и мрачная, как ведьма из дремучего леса, и упрямо превращалась в сову. Вот и глаза округлились и пожелтели, и переносица отвердела, и волосы — не волосы, а пестрые перья — упали на лицо и на подтянувшиеся вверх плечи и скрыли шею, и гитара не гитара, а истерзанная добыча в сильных лапах с дикими когтями.
Пусть не лгут, пусть не лгут
человечьи слова:
мне не нужен приют,
я — охотник лесной,
я не стану ручной,
буду злой, буду злой,—
я — сова[2].
Аська завыла от страха, уткнувши отечную физиономию в ладони, и размазала косметику, которой упорно и даже фанатично пользовалась, потому что женщина ведь. И ведь не всем от природы дана красотища, которую не побьешь даже водкой. Инка, Инка (про себя Аська называла Инессу Инкой, чего вслух ей делать не разрешалось), ей бы в киноактрисы с такой-то статью и гонором, в какие-нибудь графини, в королевы испанские, а не в санитарки больницы «Скорой помощи»! Или, к примеру, не в гардеробщицы и по совместительству уборщицы при стыдно сказать каком диспансере, при котором Ассоль, как ни брезгует, состоит вот уже три года, потому что больше никуда не берут с такой-то полубеззубой и синюшной мордой. Ой-ей, мама родна-а-ая!.. Ой, страшненько жи-и-ить!
— Так удавись, сердешная, — послышался насмешливый и брезгливый голос за спиной. — Удавись и не живи. Или я сам тебя удавлю, ей-богу, пакость ты такая! Сколько раз говорено было, чтоб ты не шлялась к матери? Брысь пошла!!!
— Мамочки! — подхватилась Ассоль. — Как же я не слышала-то?.. Двери-то?.. Как же можно так человека пугать? Заикой сделаешься в одночасье или инфарктницей. И подкрался, и сразу грозить… Не дело, Никитка, так поступать с больной женщиной. Инесса, ты хоть скажи сынуле-то.
— Я — сова-а-а… — хрипло пропела Инна, и Ассоль, осознав, что не будет ей ни помощи, ни защиты, подхватилась и неровно — шаг вперед, два назад, три налево, шаг направо, как по мертвой зыби морской, — побрела к выходу и назло сегодняшней невезухе завела «Пролетарочку»:
Как-то раз они повстречалися,
Он не мог отвести с нее глаз!
И всю ноченьку ему снилося,
Как увидел ее в первый раз.
И всю но-о-оченьку…
— «Сову» поем? — устало осведомился Никита, когда за Аськой захлопнулась дверь. Не только для Аськи Инессина «Сова» была явлением знаковым. Обычно, как давно уже понял Никита, ее исполнением знаменовалось начало тяжелой депрессии с запоем. — Мам, опять? Сколько можно? Ты что мне обещала?
— Я — сова-а-а… — пыталась защититься Инна, не надеясь, однако, что лицедейство ей поможет. Она обрадовалась, увидев сына, но была ужасно виновата перед ним и казнила себя, а потому пряталась в совиные перья. — Ники, посиди со мной. Как хорошо, что ты пришел и выставил эту… пролетарочку.
— Мам, ты дождешься, что я на все плюну и отцу позвоню, и он тебя… в больницу отправит. А может, так и сделаем, а? Полечимся, наконец? С чего ты вдруг опять «Сову» поешь?
— Пою вот. Потому что настал тяжелый жизненный период. А отцу что звонить? У него свои заботушки-зазнобушки. А на меня он давно махнул рукой, давно-давно. Когда узнал, что я его фамилию поменяла на свою девичью и тебе тоже поменяла, отобрала тебя у него. Я думала, так будет лучше, жизнь сначала начнется. Но не вышло. Не вышло. Все поделилось как-то так: на треть — пустоты, на треть — дешевого вина, на треть — ты маленький. Ты рос, крылышки отращивал, и тебя у меня становилось все меньше и меньше. И все больше и больше вина и пустоты… И не грозись, Ники, не будешь ты отцу звонить, не будешь. Ты еще маленький, Ники, ты еще не умеешь прощать родителям и понимать вещи. К тому же у нас с Олегом все было не так, совсем не так, как ты втемяшил себе в голову. Все было красиво, и волшебно, и горестно, и светло, а потом уже сделалось уродливо и пошло, как в газете. И было обидно, и я винила его. Я — сова-а-а… — И струны дрогнули и заплакали раньше, чем сама музыкантша.
— Мам, — позвал Никита, но Инна не слышала или не слушала, вытирая слезы, — ну хватит уже тебе. Что стряслось-то? Воспоминания? С работы выгнали? Приболела? Вожжа под хвост попала?
— Настал тяжелый жизненный период, — монотонно повторила Инна и сжалась вся испуганной совой, потому что поняла, что неизбежное случится сейчас, а она-то надеялась, что намного позже. Намного позже, потому что не ждала сегодня Никиту и не успела еще оправдать себя: кровь еще недостаточно была разбавлена «огненной водой», для того чтобы стало возможным такое оправдание.
— Так. Видишь ли, мне некогда сейчас. Я зашел кое-что забрать по-быстрому. Я дела сделаю и завтра забегу к тебе поговорить. Мы все обсудим, а сейчас… Мне только комп…
Но от старого Никитиного компьютера остался только пыльный след на старом столике. И вся эта пирушка, стало быть, в обществе задрыги Аськи организована на средства от продажи его старого доброго «железа». Слов не было и зла не хватало. И обида поднялась атомным грибом, испепеляя жалость к матери.
— Настал тяжелый… — снова начала было Инна под абсолютно пустым, словно зашторенным взглядом сына, но поперхнулась на полуслове и зарыдала, не вытирая соленых потоков, когда за Никитой захлопнулась входная дверь и пыльные вьюны всполошенно полетели из своих убежищ.
* * *
Гривенник летал вверх-вниз, как цирковой попрыгунчик, делал сальто в пять-шесть оборотов и снова и снова ложился на ладонь «решкой» назло Никите, который загадал на «орла». Он уже забыл, на что и загадал-то, и просто сидел на недоломанной лавочке, отдыхая, потому что с утра натоптался-набегался, и ноги от топоты гудели до колена. На последний чудом сохранившийся жетон он добрался от «Чкаловской», поблизости от которой находился «Трафик Альянс Икс», каторга его ненаглядная, до Купчино и, как оказалось, впустую. Последняя надежда добыть блок питания, чтобы заменить сгоревший, рухнула, спасибо матушке с ее сложной душевной турбулентностью, цикличной, как и все у женщин, а потому и неизбежной, как смена фаз любого коловращения. Последняя надежда, потому что с ненаглядной каторги Никиту выставили пинком под зад и даже на порог не пустили.
Не пустили, надо полагать, благодаря оперативности Пиццы-Фей-са. «Вы не числитесь в списках сотрудников», — заявил ему знакомый охранник, состроив морду кирпичом. «Виталик, — не понял Никита, — у тебя память отшибло? Не узнаешь меня, родимый? Если у тебя память отшибло, так вот эта штучка называется „пропуск“, и у меня его еще никто не отбирал. Я настолько изменился со вчерашнего дня? Шерстью оброс так, что не похож стал на свою фотографию?» «Дайте, пожалуйста, пропуск», — велел Виталик, забрал его и назад не отдал. Зато, выполнив, как видно, боевое задание, стал больше походить на человека, нежели на кирпич, и сказал, указав подбородком на телефон: «Кит, ты сам с начальством разбирайся. Я-то что? Я тут вместо турникета. Велено не пущать, я и не пущаю».