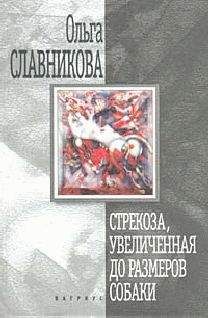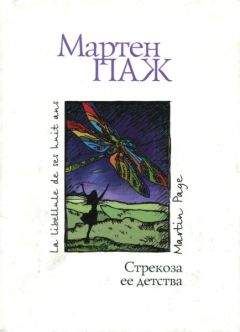Однако, что удивительно, Комариха все не умирала и жила неизвестно на чем, существовала как природный объект, вроде дерева или камня. Иногда из кухни пропадали остатки каши, несколько конфет, имелись и другие убытки в виде расхлестанной посуды, рассыпанной коробки с пуговицами; настенные календари с котятами и собачатами (которых Маргарита обожала на картинках, но не собиралась заводить живьем) болтались вверх ногами на последней кнопке, как подбитые мишени. Передвигаясь на вертикальных четвереньках вдоль головокружительных квартирных стен (потому что если одна стена вела туда, куда направлялась Комариха, то другая, непременно бывшая за спиной, в то же время вела в обратную сторону), шаря, как слепая, по завешенной и расходящейся опоре, пытаясь дотянуться до нее даже через мебель, прущую под дых, старуха сметала под ноги множество всяких вещей. Особенно большие разрушения возникали там, где Комариха вставала с места, восставала к жизни из сидячего или лежачего оцепенения, словно передавала свою бренность мягкому развалу, а сама поднималась целехонькая и, волоча исшорканные ноги вслед за более проворными руками, кланяясь стульям и тумбочкам, тащилась кое-как по своим делам. Маргарита была готова терпеть беспорядок и перевешивать котят; Комариха в таком природном состоянии могла обретаться в квартире сколько угодно, невестка при виде свекрови, до сих пор живой, не испытывала ничего, кроме легкого удивления. Ее не смущали странные занятия старухи, вроде исписывания оберточных бумажек длинными, почти до ровной нитки распущенными словами или сооружения из остатков атласной кофточки чего-то похожего на гирлянду флажков. Однако в последнее время к приподнятым чувствам Маргариты, свойственным ей всегда, а теперь особенно оживленным романом, разыгрываемым по ее направляющей воле реальными персонажами, примешивалось беспокойство. В глубине души она начинала бояться, что правильная Софья Андреевна каким-то образом, подобно Комарихе, задержится и не умрет. Не одобряя нетерпения Рябкова и горящей в его глазах готовности просто убить, что было бы, по ощущениям Маргариты, грубой подделкой, ручной кустарной работой, она поощряла усилия Катерины Ивановны, каждый день стиравшей матери постельное белье и за постоянный пропуск мывшей палату, приходившей из больницы с белыми рваными пузырями на красных, ссохшихся руках. Отыскивая свою ошибку в отношениях с бессмертной, как Кощей, свекровью, Маргарита теперь предполагала, что смерть, этот главный хищник в зоопарке птицеподобных ангелов и копытных чертей, скорее схватит жертву, если ему оказывать сопротивление и дразнить, делая вид, что у болезни возможен какой-то другой, неприродный исход.
Между тем Комариха все больше теряла веру в себя. Прежде, в молодости, люди и предметы, до которых она могла дотянуться, обладали для нее безусловной реальностью, ей даже казалось, что она имеет право ими распоряжаться. Все же остальное было для нее как для зверя чужой помеченный участок, мощный животный инстинкт подсказывал ей что-то вроде опасливого отвращения к тому, что маячило вдалеке. Три заводские бледные трубы с тремя однообразно цепенеющими в воздухе дымами, новые кварталы, представлявшие собой как бы голый строительный замысел, не вполне перешедший в жизнь, хотя и населенный людьми,– такие сооружения, изображавшие сами себя на заднем плане доступных вещей, были для Комарихи более или менее приемлемы. Но стоило им обрести реальность и собственное реальное окружение, как они становились чем-то неприятным и поистине чужим. Возможно, молодая Комариха, оказавшись на незнакомой улице, лучше других ощущала, как стандартные части города – шлакоблочные многоэтажки, магазины, стеклянистые трамваи – преобладают над слабым, почти потерявшим себя рельефом местности и над расположением немногих деревьев, свободно пропускавших ветер сквозь кривые ветви, облепленные клочьями завернутой листвы. Город стирал и делал невидной землю, какой она была сама по себе; Комариха, должно быть, чувствовала, как примелькавшиеся глазу части, соединяясь так и этак, но нигде не создавая новизны, отнимают реальность у кварталов, где она привыкла передвигаться, и благоразумно держалась своего.
Теперь Комариха больше не верила тому, что держала в руках. Не без злого участия невестки все, что прежде составляло обиход, потеряло всякое значение; только стукаясь о мебель и запинаясь о тяжелые, как гири, банки огурцов, она улавливала отзвук прежней жизни, когда ее большое тело было законной массой среди многих массивных вещей. Целое лето невестка не выводила Комариху во двор посидеть на припеке, гревшем и знобившем старую кровь, и Комариха только смотрела, как золотятся немытые стекла и желтеют на подоконнике иссохшие газеты. Мир ее сузился до замкнутой многоугольной нереальности, где изо всех предательски виляющих дверей единственная настоящая, ведущая наружу, была всегда заперта на шишковатые замки и собачью цепь. Однажды, посмотрев по телевизору когда-то любимый, а теперь непонятный фильм, она решила снова написать белокурой сощуренной актрисе, игравшей советского профессора и, вероятно, помнившей Комариху по прежним отзывам о ее правдивой творческой игре. Исписав бумагу; какую сумела найти, хотя горбатая рука тяжелела в истоме, а ручка вставала поперек удлинившихся слов, Комариха собрала листки в потертый на сгибах, но чистый и годный конверт и, каким-то образом оттянув тугие замочные языки, норовившие стрельнуть назад, оказалась на лестнице. Это было опасное путешествие, принесшее одно разочарование. Съехав раздавленным животом по перилам до почтовых ящиков, напитанных газетами, она засунула застревающий, разевающий прореху конверт в ближайшую щель, и из открытых дверей подъезда на нее повеяло свободой. Крепкий дождь лупил по листьям, расклевывал на скамейке цветочный мусор, разрытая глина кипела, как гороховый суп, а в подъезд против света протискивались две полузабытые соседки, кружась одна вокруг другой и утягивая на себя чудесные, совершенно мокрые, податливо слабеющие зонтики. Все-таки Комариха не решилась вниз, на асфальт, где была сплошная гусиная кожа и потоки воды. К себе на этаж она подтягивалась долго, вслед давно умолкнувшему стуку каблуков, висела, отдыхая, поперек перил и дышала, как резиновая игрушка с пикулькой.
Дома, в комнате, заставленной огромными, глядевшими из мути огурцами, она поняла, что совсем не чувствует прежнего волнения, всегда сопровождавшего отправку писем звездам кино, и значит, старалась зря. Расстояние, пространство были уже не теми, что в ее сорокалетней и пятидесятилетней молодости, когда она носила яркую одежду, видную издалека, и преобладала над бледной далью сильным пятном. Время, когда ее пропащий сын проживал с прохиндейкой Раиской на Дальнем Востоке, не прошло для Комарихи даром, она не напрасно упражнялась, мысленно заполняя все эти тысячи километров расстояния до Кольки красными и мягкими сосновыми пейзажами, что отдавали Комарихиным детством в лесничестве. Она вспоминала жаркий запах и храп отцовской норовистой лошади, просторный холод серебряного озера, посередине всегда являвшего сияние, точно там разбили вдребезги стеклянную бутыль. Эти и другие картины приходили теперь к Комарихе безо всякого труда: большие коричневые лягушки, резко, словно вытираемые башмаки, шоркавшие в траве; первые, зеленые, шершавые ягоды земляники; липкие от мороза и сахарной крови тазы со свеженарубленным мясом, скрипевшие в снегу; плавная, заводящая по кругу тяжесть ведер на коромысле, плотная, словно сложенная из бревен материна спина в серой ситцевой кофточке; первый весенний запах наезженной дороги, будто весна приходила из города вместе с конфетами в золотой жестянке и с новым, легким и колючим, будто из крапивных листьев, суконным пальтецом. Оттого что Комариха не могла все это тут же получить назад, у нее что-то тонко обрывалось внутри, ей казалось, что ее совсем нетрудно перервать пополам, будто пойманную на окне желтопузую муху, и ноги ее, стоявшие на полу точно две мотыги, совсем отказывались двигаться.
Теперь Комариха понимала, что настоящее лежит за горизонтом. Видные из окна массивные дома, грубые коробки, украшенные беленькой лепниной, и в особенности тот, где восходящее солнце пронзало и пыталось изменить лучами четыре гипсовые статуи, были для Комарихи представителями лежавших за ними пространств и одновременно заграждениями, не пускавшими ее за границу назначенной судьбы. Чем слабее становилась Комариха, чем труднее ей было глядеть вперед, а не под ноги, чем короче делались ее прерывистые шажки, тем явственнее ей хотелось за предел, туда, где с нею еще могло произойти что-то приятное и похвальное. Страх пространства был одновременно страхом высоты, поэтому Комариха, преодолевая тошный трепет под ложечкой, стала потихоньку выбираться на балкон. Там, стараясь не опрокинуть майонезных банок с черной водицей и раскисшими окурками, особенно валких на высоте и на ветру, чувствуя прутья перил, ножки сырого табурета и собственные ноги в невесомой на воздухе юбке как что-то сквозное и крайне ненадежное, Комариха силой заставляла себя держать открытыми холодные и мокрые глаза. Внизу от лужи к луже летела резкая рябь, пешеходы двигались с неприятной живостью, мужчины, как жуки, женщины, как улитки, а на соседнем балконе стояла небольшая, пустыми оглоблями в небо, лестница-стремянка. Ни за что на свете не решаясь сесть на табуретку, Комариха на корточках, одной рукою вцепившись в прут, спускала другую болтаться вниз, где было гораздо холоднее и словно что-то струилось между скрюченных пальцев,– преодолевая одышливый ужас, высовывала руку по локоть, по плечо, пока ее скривленная щека не касалась преграды, адской перекладины. Потом она с трудом вылезала из державшей и ломавшей ее решетки и, простоволосая, с обнаруженной ветром клюквенной лысинкой, унимала дрожь, как никогда нуждаясь в похвале. Впервые в жизни Комарихе хотелось, чтобы ее показали по телевизору.