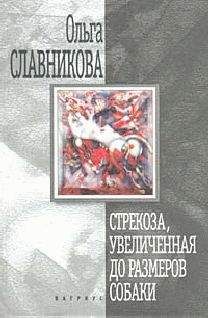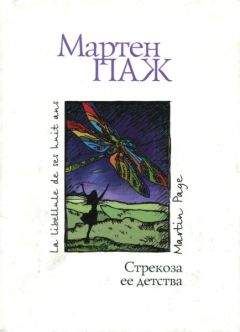Однако серебро на столе было интересное, похожее на зашифрованный разными способами вопросительный знак. Покачивая на ладони серповидный нож, Рябков воображал натюрморт из чего-нибудь подобного в соединении с бутылками и банками простого стекла и думал, что пора приспособить Катерину Ивановну к настоящему делу, устроить ей предсвадебный экзамен. Его отвлек хозяин квартиры, выцветший мужичок с потертой каракулевой сединой и мягкой голубизной обморщиненных глаз: занимая гостя, он показал ему на полках коллекцию минеральных образцов, но ни блестевшие крупной солью кварцевые щетки, ни похожий на пупырчатую жабу кусок необработанного малахита не соблазнили Рябкова. Дальше были танцы при толстых розовых свечах, на сбитом складками ковре, с бурной деятельностью освещенной электричеством кухни. Рябков в танцах не участвовал и видел Катерину Ивановну в основном со спины, плававшей в медленном танце, как большая белая мыльница в круговой, уходящей в какое-то отверстие воде; лица кавалеров над округлым ее плечом казались ему слащавыми, как медовые пряники, и особенно неприятны были руки, обнимавшие Катерину Ивановну, словно нарочно выложенные на белое для демонстрации всех подробностей их уродства. Потом хозяйки начали вытаскивать на стол такие же тяжеленькие, как салаты, всякими вкусностями обсыпанные торты; Сергей Сергеич осматривался.
Наконец, когда именинница, жмуря усталые кошачьи глазки, торжественно вынесла глуповатый, как горшок с комнатным цветком, пахнущий смолою ананас, Сергей Сергеич увидел то, что нужно: очень узкую двузубую вилку, имевшую в изгибе нечто скорпионье и сразу организовавшую стеклянные лжеобъемы как бы в пространство потери тонкой и острой вещи, а банки и бутылки имелись у самого Рябкова за шкафом, оставалось только их отмыть. Снова – вместо ушедшего в ноги и под землю томительного танца – зазвучала музыка, протяжно-переливчатая, тянущая душу, как факир вытягивает из кувшина змею; хозяин квартиры и еще один, церемонный, с руками словно китайские веера, устремились к Катерине Ивановне, но Сергей Сергеич, незаметно стоявший за ее спиной, крепко взял ее за локоть и повел с собой на лестничную площадку. Там, стряхивая пепел в консервную банку с окурками, он спокойно и мягко объяснил некурящей, глупо переминавшейся перед банкой невесте, что именно требуется ему для нового этапа творчества из хозяйских вещей. Катерина Ивановна молчала и мучительно краснела: Сергей Сергеич видел один ее заблестевший глаз, похожий на зеркальную елочную бусину. Он понимал, что Катерине Ивановне хорошо на этом празднике, что ей не хочется работать, и чувствовал нечто педагогическое в своей настойчивости. Немного все-таки ее жалея, он лишний раз повторил, что обязательно вернет хозяевам вилку, как только напишет картину, и подтолкнул невесту обратно к дверям, навстречу большой компании гостей, сопровождавших красивую даму в узком, как чехол на зонтике, переливчатом платье, которая прикуривала от поданной зажигалки, мягко отводя за ухо путаницу мелко завитых волос. В комнате, где в углу очень тихо, чем-то похожая на отражение в воде, танцевала только одна неприметная пара, почти не выделявшаяся цветами одежды из теплой полутьмы, Рябкову дали тарелку с завалившимся набок клином помятого торта, и он на минуту потерял Катерину Ивановну из виду. Ему показалось, что по комнате прошло какое-то волнообразное движение, окружающее словно потянулось в истоме, пламя огарков мелко заструилось, пуская прозрачные стеариновые слезы и длинные шелковины копоти. Хозяйка, улыбаясь тою улыбкой, какою встречала на службе посетителей технической библиотеки, наклонила над его тарелкой блюдо с остатками ананаса, плававшими в мутноватом соку, и Рябков увидал, что она вылавливает для него древесно-желтые дольки незамысловатой вилкой, которую он хотел получить, а простецкой ложкой, какие во множестве торчали, как лопаты, из раскопанных салатов. Сразу все сделалось ему неинтересно; до самого конца он почти не говорил с Катериной Ивановной, сидевшей на диване в обнимку с собой, точно у нее заболел живот, а когда именинницына дочка, сиявшая линзами, будто полированными агатами, попыталась развлечь его разговорами на научные темы, Сергей Сергеич в ответ только невежливо мычал. Когда наконец в комнате включили верхний свет, озаривший в упор теплые пеньки свечей и разорение на белых скатертях, Рябков одним из первых направился в прихожую и начал ворочать горообразную одежду на вешалке, откуда срывались и падали вертикально на пол сразу по два или три пустых оседающих пальто. Чернобурка Катерины Ивановны висела в обнимку с какой-то легенькой и скользкой курточкой в бряцающей фурнитуре; подавая ей распахнутое, атласное изнутри пальтище, Рябков с нетерпением глядел, как она, прижав подбородком кое-как накрученную шаль, заводит руки с прихваченными рукавчиками, будто большая ощипанная орлица, желающая взлететь. Насмешливо поклонившись хозяйке, лирически, как березу, обнимавшей дверной косяк, Рябков поспешно сбежал по лестнице на улицу, где на него по-собачьи кинулся мокрый лохматый ветер. Вся одежда Рябкова ходила ходуном на полуоторванных пуговицах, будто карточный домик, углы запекшегося рта горели от жгучего ананаса, точно там зашивали иголкой, глубоко в ноздрях держался покойницкий душок погашенных свечей. Придерживая Катерину Ивановну, оскользавшуюся на обледенелых горушках, Сергей Сергеич думал, что со свадьбой все-таки ничего не получится. Но Катерина Ивановна вдруг остановилась, расстегнула пальто и подала Рябкову нагретую, будто градусник, злополучную вилку. Сергей Сергеич ласково усмехнулся и поцеловал зажмуренную Катерину Ивановну в округлый лобик, холодный, словно давно остывшая лампа. У него возникла и затеплилась потихоньку естественная мысль, что при таком таланте Катерины Ивановны ему уже не придется перед получкой жевать на ужин дряблые написанные яблоки, состоящие из ваты и кислой воды,– подъедать остатки натюрмортов, не имеющие живого вкуса и заставлявшие Рябкова страдать желудком; приятные предчувствия Сергея Сергеича отчасти походили на предвкушение наследства, тем более что вот-вот ожидались неизбежные, легко переживаемые похороны.
Разговоров о близкой кончине Софьи Андреевны, уже фактически исчезнувшей из жизни, велось как-то слишком много, и все они с неизбежностью отдавали кощунством. Начавшись на службе у Маргариты, они продолжались дома, и Колька оказался гораздо лучшим, много больше понимающим собеседником, чем растолстевший, будто гусь, не в меру взбудораженный Рябков. Сергей Сергеич так хотел немедленной смерти старухи, что, казалось, был готов поехать к ней в больницу с пистолетом и ножом. Он не понимал, какое это восхитительное чувство, когда всё происходит само и хочется подпевать и хлопать в ладоши, оставаясь в стороне.
Разговоры супругов на растресканной кухне, где из просторных, с тенями, щелей росли и шевелились тараканьи усы, их хоровые беседы с повтором самых нежных и протяжных слов действительно напоминали пение. Они до того увлеклись улаживанием дел Катерины Ивановны, что и собственные планы стали строить параллельно, даже отложили до «счастливого конца» покупку телевизора, но зато обещали себе настоящий цветной «Горизонт». Колька, постаревший за время жизни с Маргаритой на десять лет, но не от невзгод, а, напротив, от ощущения окончательного и покойного устройства судьбы, был абсолютно согласен, что для полноты их собственного счастья, при невозможности немедленного коммунизма, надо все вокруг наладить как можно правильнее, без старушечьих болезней и женского одиночества. Лысовато-пушистый и по-стариковски чувствительный, Колька постоянно радовался, какая у него, в сравнении с Раисой, добрая жена. При одном только взгляде на Маргариту – на исцарапанную руку, мешающую суп, на тощий ее халатик с двумя большими, как мешки, набитыми карманами (в одном ко-милось кухонное полотенце) – Колька ощущал нежное защемление переносицы, очки наполнялись влагой, превращая слезы в жгучую оптическую резь. Вслепую он хватался за жену, за ее ползущий, слабеющий поясок, снова усаживал рядом с собою за шаткий стол, который от их возни шатался, качая грязную посуду; Маргарита снисходительно поглаживала и пошлепывала мужа по лысине, издававшей звук, точь-в-точь как крутое тесто для сдобного пирога.
Все-таки Кольке было немного страшно, ему мерещилось, что, когда он на ночь раздевает Маргариту, она, ужимчивая, легкая на повороты, на самом деле ускользает от него, только ее одежда, протягиваясь и слабея, остается в руках; часто жена казалась ему какой-то незнакомой, и моментами, в воспоминаниях сильнее, чем в реальности, его пугала разница между Маргаритиным гладким телом и наморщенным от нежности лицом. Храбрая и сильная жена успокаивала Кольку, оглушительно целовала в ухо, и он опять умиленно верил, что после смерти Софьи Андреевны у всех начнется замечательная жизнь. Чем ближе казалась развязка, тем неохотнее он оставался один, без Маргариты; если она по вечерам куда-то уходила, он тоже начинал ходить по темному коридору, шатаясь против света из разных дверей и упираясь в наружную, запертую на множество замков, с купеческой цепью по дерматиновому брюху и с ослепительной точкой глазка, испуганно косившего от малейшего движения на лестничной площадке. Постепенно Колькина походка механизировалась до бессознательного счета шагов – и внезапно, поймав себя на круглой цифре «двести» или «триста», он вспоминал хохочущий солнечный класс, собственное выпендривание, втайне бывшее усилием немного подрасти, подножку долговязого Петрова, его ножищу в кеде размером с лошадиный череп, появление учительницы. Колька помнил сутулой спиной, как открывалась классная дверь, в которой словно не было человека – не было ничего, кроме пустоты,– и теперь ему казалось, что стоит отвернуться, как все замки вместе с никелированной цепью грохнутся на пол и в проеме, поверх бесформенной железной кучи, возникнет Софья Андреевна, почти покойная. Иногда, оставленный Маргаритой перед стареньким, почти беззвучным телевизором, где по бледному изображению через равные промежутки времени проходила теневая полоса, Колька не смел ступить и шагу в неосвещенный коридор, даже не ходил в туалет. Однако в глубине души он твердо знал, что боится так, на всякий случай, а на самом деле все устроится и будет хорошо. Прибегала Маргарита, румяная, в белых с мороза очках и седом, курчавом, как каракуль, платке, приносила полную сумку пахнувших снегом продуктов, различавшихся более по цвету, чем по вкусу. Но тем интереснее было ими ужинать: разноцветная еда, накромсанная мягкими кусками, создавала праздник. Софья Андреевна лежала далеко в больнице, про нее нестрашно было разговаривать, прихлебывая коричневый хлорный кипяток с тремя размешанными ложками сахару; хотелось даже называть учительницу уменьшительным домашним именем, будто родную. Только из одной любви друг к другу Колька с Маргаритой, даже ссорясь, называли все и всех ласкательно и уменьшительно вперемежку с таким же ласкательным матом; слово, умаляя вещь, удлинялось само и как бы вертело вещь на ладони, давая подольше поглядеть на ее заманчивые подробности; такую же форму, с двумя хорошенькими суффиксами, Колька с Маргаритой образовали от слова «смерть».