— О, отличная вы девица, это уж точно! — Он потрепал меня по спине. — А теперь будьте осторожнее, мисс.
— Буду, — сказала я. — И большое вам спасибо.
— Прощайте.
— Прощайте.
Шагая вдоль квартала к Ленни, я вновь почувствовала спазм — борясь с тошнотой, я прижалась к фонарному столбу так, что на руке у меня отпечаталась ржавчина, и тогда я ни о чем не могла думать, кроме как о том, чтобы снова стать распутницей, птицы зашелестели вокруг меня, пролетев сквозь тихую сверкающую воду, замахали крыльями, суша их, и появилась туча, затянувшая небо, и похолодало, словно включили вентилятор, остудив пот на моей спине; я постояла, прислонясь к столбу, пока в чреве трудилась боль. «Одна капелька чего угодно, — подумала я, — может спасти жизнь бедной пропащей Пейтон», потому что все было так беспутно, и, может, в конце концов он скажет: «Нет!» «Нет, — сказал он однажды с гораздо большим огорчением, чем чувствовала я, — нет, я этого не понимаю. Я слышал про мужчин, которые за один-два года становятся странными, но никогда не слышал, чтобы такая хорошая, приличная девушка, так замечательно мыслящая, вдруг сломалась. Вот чего я не могу понять, Пейтон, — а ты можешь? Что случилось с тобой?» Он не понимал, что я вдруг стала тонуть, не понимал про птиц — я никогда не говорила ему про них. Гарри не знал про птиц или про то, как я относилась к Марте Эпштейн — он стал ренегатом в столь малом — неужели он не мог простить мне то, что я не прощала его, и то, что я наделала? Неужели он не мог понять, как я страдала от собственной ненависти и в каком я была отчаянии? Он никогда не мог понять этого или чего-либо другого; или когда я стала спать в Дарьене с Эрлом Сандерсом, мы стояли с ним однажды под душем, и тут крылья и перья все собрались и пролетели сквозь желтую полупрозрачную занавеску — так я повисла на нем под сильным душем, и я думала: «Ох, Гарри, ох, моя плоть!» Я думала: «Бедное голодающее существо, бедная частица Бога, бедный человек». Спазм прошел. Я оторвалась от фонарного столба, взяла свою сумку и пошла по улице. Свет спустился с крыш зданий, и люди сидели на солнце в дверях, почти не шевелясь и оцепенев, как спящие кошки; мне хотелось выпить еще мартини, но, подойдя к дому Ленни, я забыла об этом. Так сильно у меня стучало сердце. Я остановилась. Наверху, в чащобе пожарных лестниц, какая-то женщина вытряхивала одеяло, посылая вниз тучу пыли, и где-то заплакал ребенок; улица в основном была пустынная и мирная — я понимала, что не должна думать о доме. Я вошла в вестибюль и нажала на кнопку, услышала, как наверху зазвонил звонок, — здесь было так тихо, словно ты услышала во сне отдаленный телефонный звонок: раз, и два, и еще раз; по авеню проехали, урча, грузовики и потом автобус — я его слышала: с шипением открылась дверь, снова зашипело, когда она закрылась, и с нарастающим грохотом заработал мотор, замирая вдали. Затем я уже сама была в автобусе, потея среди всех этих посетителей магазинов, чувствуя запах, исходящий от испарений, от кожаных сидений в пятнах от пота, которые с шипящим грохотом уносит автобус в центр и вдаль от этих мучений и моего колотящегося сердца. Только теперь звонок звонил по крайней мере пять раз, а я по-прежнему стояла в вестибюле, пот струился по моему лицу, и я была одна. Я позвонила еще раз, но никто не ответил. И я подумала: «Ох, Гарри». Я присела на приступок у двери и вытащила из сумки часы, но нет: я почувствовала, что успокаиваю себя как ребенок — когда слишком много хорошего, это плохо, даже мои часы, так что я выбросила… выбросила из головы мысли даже об этой успокоительной прохладной тьме и безостановочно движущихся колесиках. Их я сохраню для Гарри. Но Гарри. Ох, Гарри. И неужели он снова не вернется? Я положила часы обратно в сумку, ощупывая их снаружи — все рычажки и кнопочки, которыми можно пользоваться. За дверью раздался топот ног, стук каблуков, два луча света на взбитых волосах и женский голос:
— Дети… возвращаемся… Дороти… Томми… возвращаемся… дети… возвращаемся… возвращаемся.
Я тихо сидела, почти не шевелясь, и я думала так же уверенно, как была уверена, что утратила любовь: «О Господи, я, должно быть, умру сегодня, но неужели я не воскресну в другое время и не встану на Земле чистая и незапятнанная?» Я постаралась помолиться без слез, но когда я молюсь, я плачу, поскольку я не знаю, о чем или кому я молюсь. Я сказала, что Бога нет. Бог — это газообразное позвоночное, ну и как могу я молиться чему-то похожему на медузу? Словом, я перестала молиться и, вынув из сумки бумажную салфетку, вытерла слезы — я буду хорошей девочкой, как всегда говорил зайка; однажды в школе ставили пьесу, и я была там Духом Света, и на мне было серебряное платье, сквозь которое все было видно, и зайка посадил меня к себе на колени, и когда я спрыгнула, то увидела его лицо — оно было красное и напряженное, как у ребенка, написавшего в пеленки. «Ты должна быть хорошей девочкой, дорогуша, — не обращай внимания на то, что я делаю, не обращай внимания на то, что она говорит. И помни, что говорила бабушка: тех, кто держит штанишки на месте, на небе ждут пироги» — так, по его словам, она сказала, и однажды мы с зайкой отправились кататься на яхте, я тащила по воде морскую водоросль, глядя на то, как крабы разбегаются по мелководью, — она потом ударила меня щеткой для волос или чем-то еще. Все было очень путано, но она отшлепала меня, потому что я заставила зайку коротко подстричь мои красивые волосы, как у Марлен Дитрих, а потом мы поехали кататься на яхте — руки у меня были все в пузырях и полны улиток, и я думала о бабушке, которая держала табак за губой. Schlage doch, gewunschte Stünde. Дети вернулись — они вошли в дверь с серьезным видом. У мальчика был игрушечный жестяной бидон — красиво нахмурясь, он нес его под мышкой. На улице голуби баламутно кружили в солнечном свете, и мимо с грохотом проехала мусороуборочная машина. Я не могла придумать, чем заняться. Я пыталась молиться: «Освети мою тьму, молю Тебя, о, Господи, очисти меня, сделай невинной и безгрешной; Боже, верни мне моего Гарри; потом: Гарри, верни мне моего Бога, потому что где-то я сбилась с пути, сделай меня такой, какой я была ребенком, когда мы гуляли по песку и собирали ракушки. Аминь». После этого я открыла глаза и тут увидела записку — сложенный кусок бумаги торчал из почтового ящика. На нем значилось: «Лора». Я развернула его, прочла каракули Ленни: «Уехали к А. Берджеру, не знаю зачем, кроме того, что нам скучно. Гарри говорит, если П. придет, сказать, что он уехал в Перу. Любим и целуем». Я прочитала это трижды — просто чтобы быть уверенной: мое спасение. По крайней мере я в точности знала, где искать его. Я тщательно сложила записку и снова засунула в почтовый ящик. Тут дверь хлопнула — вошел Томми Гивингс в твиде, со своей трубкой, с добрыми голубыми глазами, замечательный, благородный инглишмен.
— Вот так сюрприз! Чем это вы занимаетесь, Пейтон? — спросил он.
— Читаю записку, — сказала я, — то есть читала записку.
У него была лысина — он нервно поспешил прикрыть ее завитком седых волос, такой же эмигрант, как и я, счастливый ученый цыган.
— Дорогая плутишка, что случилось? У вас такой вид, точно вы в беде.
— Ничего, — сказала я, — я просто читала записку.
— А-а, да, понимаю. — Он пожевал свою трубку, сосредоточенно глядя на меня.
— Я охотилась за Гарри, но он уехал, — сказала я.
— А-а, да. — Он вытащил большой льняной платок. — У вас все лицо в саже. И в слезах. Томми вытрет. — Он стал вытирать мне лицо, что-то напевая, от него пахло табаком. — Теперь все в порядке. Как насчет того, чтобы выпить у меня? Вы сможете там подождать Гарри.
— Нет, благодарю вас, Томми, — сказала я. — Я должна прямо сейчас пойти отыскать его. Он уехал с Ленни.
— Дорогая плутишка, вы считаете, что вам стало лучше? Выглядите вы, знаете ли, совсем разбитой. Что вы такого натворили? Пойдемте со мной…
— Нет, — сказала я, — спасибо, Томми. Мне надо найти его. — Я пошла назад по вестибюлю мимо почтовых ящиков, держа сумку у груди, наблюдая за ним: трубка была теперь у него в руке, брови подняты, на губах улыбка, вид озадаченный и озабоченный. Он вытянул костлявую руку.
— Дорогая плутишка…
Но я потянула на себя дверь и вышла на улицу. Жара стояла в воздухе словно горящее пламя. Дети и их мать ушли. Голуби ворковали и шебуршили на крышах. Мимо, пошатываясь, прошел старик итальянец, согнувшись под тяжестью кресла, охая, потея; дальше по улице взорвался фонтаном серебряной воды водоразборный кран, и трое мальчишек в шортах резвились, прыгая туда-сюда, впрыгивали под серебряную струю и отскакивали точно ловкие коричневые пчелы. Пронзительные крики разрезали воздух, а над головой рокотал самолет, но на остальной части улицы было тихо. Мимо медленно проехало такси — я подняла руку. Шофер протянулся назад и открыл мне дверцу, и я сказала: «Сорок, Вашингтон-Мьюз». Я положила сумку рядом с собой на сиденье, придерживая ее пальцами. За запыленным стеклом значилась его фамилия: Стэнли Козицки, 6808, — и он проговорил:
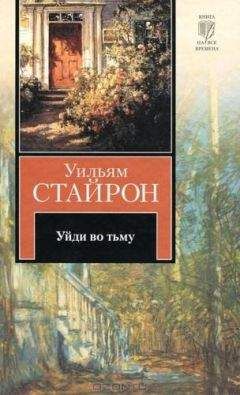



![Ричард Адамс - Обитатели холмов [издание 2011 г.]](https://cdn.my-library.info/books/49785/49785.jpg)
