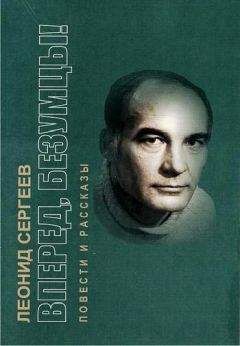— Наша бедная Россия — истерзанная земля, несчастный народ — мне дороже самых процветающих стран.
— Вы просто оголтелый патриот! — ее настрой подскочил до самого высокого градуса и уже почти перешел в грубость.
Он тоже повысил тон и ответил без заминки:
— А вы эгоистка. Уезжают те, кто думают только о своем благополучии, но не о стране. Им на все наплевать, лишь бы прилично жить.
— Да, по-человечески, и среди людей, а не варваров. И не испытывать страх за судьбу близких… Я уезжаю с легким сердцем и никогда сюда не вернусь, как бы там ни устроились. Хуже, чем здесь, не бывает.
— Не зарекайтесь. Вас еще потянет сюда.
— В это болото?! — она едко хохотнула. — Никогда в жизни! Как раз оттуда я особенно отчетливо увижу, как была здесь несчастна, и будет жаль впустую потраченного времени… Ну, ответьте, почему никто из эмигрантов не возвращается? Почему?!
Он пожал плечами, и на ее лице появилась победоносная улыбка.
— Вот именно! Здесь нечего отвечать… И вообще, почему человек должен умирать там, где он родился? В западных странах уже давно нет границ, а здесь все огораживаются. Там люди живут где хотят… Конечно, Западный мир заставляет человека постоянно быть собранным, испытывать напряжение, нагрузки, но это мобилизует, заставляет проявлять лучшее в себе, совершенствоваться, добиваться успеха… Только так и можно полностью реализовать свои способности. Там много работают, но и получают в десять раз больше, чем здесь. Во всяком случае, кто талантлив и трудолюбив, имеет собственный коттедж, машину, даже яхту… И мы все это будем иметь!.. — ее улыбка снова стала радостной, лицо посветлело — будущее перед ней уже почти материализовалось. — Мы будем жить в Калифорнии, там много выходцев отсюда… Там потрясающе!.. Там даже небо не такое, как здесь. Представляете, в Калифорнии триста шестьдесят солнечных дней в году! — она засмеялась и с прежней брызжущей радостью широко раскинула руки, готовая объять все калифорнийское небо.
В ту осень погодка не баловала, дни стояли дождливые с густыми туманами. В шесть утра я просыпался, оттого что приезжал на своей колымаге мусорщик и, яростно громыхая, убирал помойные ящики, «облагораживал убежище грязи и мрака», как выражалась моя мать. Потом дворничиха начинала скрежетать метлой — заметать опавшую листву и во всю глотку что-то обсуждать с напарницей из дома напротив. Я чертыхался, залезал с головой под одеяло и никак не мог взять в толк: почему этим надо заниматься, когда все еще спят? Какой идиот распорядился приводить улицы в порядок, когда у людей самый сон?! Крепкий предрассветный сон?! В полудреме я слышал, как гремят будильники у соседей, шарканье и кашель на кухне, слышал, как мать хлопала дверью, уходя на работу. В общем, вставал невыспавшись, без особого аппетита проглатывал завтрак и в неважнецком настроении плелся на работу.
Но потом, наконец, выдался отличный денек. Во-первых, не приехал мусорщик и дворничиха молча орудовала метлой — видимо, куда-то запропастилась ее напарница. Во-вторых, когда я вышел на улицу, прямо по-летнему сверкало солнце и по небу плыли белые облака.
А затем началась непрерывная полоса везения. В газетном киоске мне достался журнал «Советское фото» — «сад искусства», как его называла мать, склонная к высоким чувствованиям. В табачном киоске я купил пачку заграничных сигарет. Подошел к ларьку, смотрю — продавщица беззастенчиво достает из-под прилавка целый блок и протягивает какому-то тузу в шляпе:
— Пожалуйста! Заходите, всегда вам рады.
Я скорчил простодушную гримасу и сунул деньги в окошко:
— И мне пачку таких же!
Продавщица посмотрела на меня враждебно, поморщилась, но все-таки сигареты отпустила.
Обычно в автобус я садился довольно спокойно: по его ходу точно рассчитывал место, где он притормозит (глаз на подобные вещи у меня наметанный), и втискивался в дверь одним из первых. Бывало, получал в спину кулаком за такую прыть, но это уже не имело значения. А в тот отличный солнечный денек мне особенно повезло: автобуса долго не было и на остановке скопилась огромная толпа, причем каждый старался протиснуться поближе к бровке тротуара. И вдруг замечаю — мимо катит левый, заблудший «рафик». Не очень рассчитывая на удачу, я махнул рукой; шофер прореагировал и взял к обочине. Пока народ соображал, что к чему, я уже был в салоне. Так меня и еще нескольких расторопных пассажиров шофер и подбросил до метро. Тариф на десять копеек больше, зато быстрее и с удобствами, и никто не отдавил ноги, не толкнул, не нахамил, как обычно в переполненном автобусе. И кстати, участок ремонта мы проскочили без задержки — в то утро асфальт на бульваре не клали. Дней десять именно в час пик рабочие ремонтировали дорогу. Перекроют одну полосу и гоняют каток взад-вперед, а транспорт, естественно, простаивает. В автобусе, бывало, все ругаются. Еще бы! Люди на службу опаздывают, а рабочие знай себе неторопливо машут лопатами.
— Вопиющее неуважение к людям, — говорила мать про подобное издевательство.
Именно в тот осенний солнечный денек на работе я получил премиальные, а после работы подал заявление на курсы фотографов. И сразу мне стало как-то радостно; я шел по вечерним многолюдным улицам и впереди уже вырисовывалось мое прекрасное будущее: я покупаю заграничную фотокамеру, делаю потрясающие снимки, становлюсь великим фотографом. Чтобы продлить свой радостный настрой, я решил поужинать с портвейном и заглянул в какое-то кафе. И вновь мне удивительно повезло — швейцар без уговоров пропустил меня всего за рубль, а гардеробщик раздел и вовсе за полтинник, и официант ко мне сразу подошел, а не, как обычно, через полчаса. Что и говорить, тот денек был отличным во всех отношениях.
И вот только официант принес заказ — как ко мне подбежала Светлана. С ней я познакомился полгода назад на вечере в клубе закрытого НИИ. Она заканчивала Ленинградскую консерваторию и приехала в Москву на каникулы. Там, в НИИ, мы столкнулись у вешалки, она приветливо улыбнулась, что-то спросила, я что-то ответил. Как-то незаметно мы очутились за столом в углу, разговорились. Она была маленькой, черноглазой, проворной.
— …Господи, как здесь хорошо! — проговорила, радостно запрокинув голову. — Вы, москвичи, такие раскованные, не то что мы, ленинградцы. Я вам благодарна, что вы скрасили мое одиночество. Вы мне сразу понравились. А я? Я вам нравлюсь?
— Очень! — еле сдерживая волнение, выдавил я.
— Пойдемте танцевать, — вскочила она. — И давайте на «ты», надоели эти условности!
Во время танца она прижалась ко мне, и я чувствовал ее сбивчивое дыхание. Потом она отстранилась.
— Ты мне не просто нравишься, кажется, я уже в тебя влюбилась. А ты?
— Я тоже, — только и смог пробормотать я.
Она остановилась у подруги и, когда я ее провожал, мы целовались в каждом укромном местечке и она шептала:
— Я тебя люблю. А ты меня? Если хочешь, я могу переехать к тебе в Москву. Только, конечно, надо будет зарегистрироваться. Мама с папой просто так не отпустят. Они строгие. Но мы завтра увидимся, да? И обо всем поговорим. Я тебя очень люблю и всю ночь буду о тебе думать.
Домой я шел нетвердыми шагами — меня пошатывало от счастья. Все случилось так неожиданно, я ничего не мог понять, но был уверен, что до Светланы в моей жизни ничего значительного не происходило. Будущее уже рисовалось не просто прекрасным, а ликующе прекрасным, прямо-таки триумфальным — великий фотограф был и в «сердечных делах» (выражение матери) счастлив по уши.
На следующий день она прямо бежала ко мне навстречу. Подбежала, обняла, поцеловала в щеку:
— Я ужасно по тебе соскучилась!
Вечером я посадил ее на поезд «Москва — Ленинград», и она долго посылала мне поцелуи через стекло.
Наутро я получил телеграмму: «Люблю. Не могу без тебя». И на следующий день: «Очень люблю». И через день: «Ужасно люблю, если мы не встретимся, не знаю, что будет со мной!». Она совершенно не умела сдерживать свои чувства и, как ни странно, мне это нравилось. Да и чего ж здесь странного — кому не приятно слышать такое, особенно если тебе всего-то чуть больше двадцати?! Любой потеряет голову.
Понятно, до этого я не задумывался о браке — и потому что еще не достиг славы великого фотографа, и по материальным соображениям: куда мог привести жену, если мы с матерью жили в четырнадцатиметровой комнате?! И вдруг Светлана! Из-за нее я начал страдать бессонницей.
Через неделю она приехала снова, с тортом и цветами, сказала, что хочет познакомиться с моей матерью. За чаем она без умолку рассказывала матери о консерватории, о дипломе, который вот-вот получит, о том, что ее уже приглашают во многие места, но теперь, встретив меня, просто не знает, как быть.
Когда мы вышли прогуляться, Светлана стиснула мой локоть.