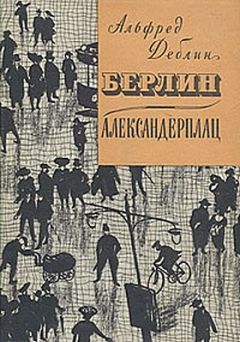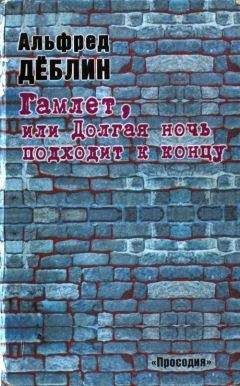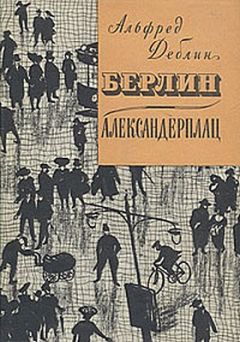— Не согласен я с вами, господин главный врач: попытка ведь не пытка. Не думаю, что это так просто. (Куд-куд-ах, куд-куд-ах, все знаю, все знаю! Я один все знаю.)
— А я думаю. Ну, да вы еще увидите. Поживите-ка с мое! Словом, не мучьте вы человека. Поверьте, все это ни к чему. (Надо зайти еще в девятую палату, вот птенцы желторотые, уж истинно, — на бога надейся, а сам не плошай, интересно, который теперь, собственно, час?)
* * *
Франц Биберкопф лежит без сознания, в беспамятстве, изжелта бледный, с отеками на лодыжках, опухший от голодовки. От него пахнет голодом, приторно пахнет ацетоном; кто бы ни вошел к нему в палату — сразу поймет, что здесь происходит что-то необычное.
Душа Франца Биберкопфа достигла уже низшей ступени бытия, его сознание пробуждается лишь изредка. Зато теперь его без труда понимают серые мыши, гнездящиеся в складе, и белки, и полевые зайцы, прыгающие за стенами барака. Мыши сидят в своих норках между арестантским бараком и главным корпусом больницы. Туда устремляется какая-то частица Францевой души и ищет, шепчет, и спрашивает, слепая, и возвращается в оболочку, которая все еще лежит за каменной стеною на койке и дышит.
Мыши приглашают Франца откушать с ними и не грустить. Отчего, спрашивают, он такой грустный? И тут выясняется, что ему вовсе не легко говорить.
Мыши убеждают его решительно положить конец этому состоянию. Человек — гадкое животное, всем врагам враг, отвратительнейшее из всех созданий на земле, хуже кошки!
Франц соглашается: нехорошо жить в человеческом образе, гораздо лучше скрываться под землей, бегать по полям и есть что бог пошлет. Веет в поле ветер, дождь пройдет, солнышко выглянет, то тепло, то холодно — благодать! Так лучше жить, чем в образе человеческом!
И вот Франц — полевая мышь. Бегает, роется в земле вместе с другими мышами…
А Франц-человек лежит на койке в арестантском бараке, каждый день приходят врачи, поддерживают в его теле огонек жизни. Но тщетно — он угасает. Они и сами на него махнули рукой. Вся животная, слепая сила ушла из него, унеслась в поле.
Он лишь изредка и смутно ощущал ее в себе. И теперь неслышно и незримо покидает его все то, что взял он от земли. Ощупью выбирается наружу Францева слепая душа, взмывает вверх, плывет над мышиными норками. И вот она уже в поле — словно ищет что-то меж стеблей трав; вот ушла в землю, туда, где растения таят свои корни. Прошептала им что-то, и они поняли ее, закачалась трава, и послышался легкий шорох, будто семена падают на землю. Это Францева душа возвращает земле свои ростки.
Только вот время неподходящее — холод, мороз, кто знает, примутся ли они, дадут ли всходы. Но места в поле хватит, а душа Франца богата земными ростками. Каждый день улетает она в поле и высеивает новые семена.
СМЕРТЬ ПОЕТ СВОЮ УНЫЛУЮ, ПРОТЯЖНУЮ ПЕСНЬ
Затихли повелители бури, и другой певец начал свою песнь; все знают эту песнь, и все знают певца. Когда он возвышает голос, все умолкают, даже самые буйные жители земли.
Смерть затянула свою унылую, протяжную песнь. Тянет, заикается, повторяет каждое слово; пропоет один стих, другой, потом повторяет первый и начинает все сначала. И кажется, будто пила визжит. Заведет чуть слышно, потом все громче, звонче, выше, словно вгрызается в дерево, и вдруг звук резко обрывается. Отдохнет Смерть и снова заведет медленно-медленно. Скрежет нарастает, визг становится все выше и сильней и впивается в тело, словно пила в дерево.
Протяжно поет Смерть:
— Пора, пора мне прийти к тебе, ибо уже уносит ветер ростки твоей жизни, ты собрался в путь и вытряхнул простыню, на которую уже больше не ляжешь. А я не только косарь, я не только сеятель, я и хранитель — вот почему я здесь. Да! Да! Хорошо!
Да, хорошо! Такой припев песни, которую поет Смерть. И она повторяет его после каждой строфы. И при каждом резком движении Смерть приговаривает: "Да, да, хорошо!" Она довольна. Нравится ей этот припев.
Но тем, кто ее слышит, он совсем не нравится, и они зажмуривают глаза, как от нестерпимо яркого света.
Уныло, протяжно поет Смерть. И молча внимают ей и блудница Вавилон и повелители бури.
— И вот я здесь, я вижу тебя и принимаю к сведению: здесь лежит Франц Биберкопф. Он больше не дорожит жизнью и не бережет свое тело. Теперь он знает, куда идет и чего хочет.
Красивая песня, не правда ли? Слышит ли Франц эту песню? Да и вообще, что это значит: "Песня Смерти"? Увидишь такое в книге или прочитаешь вслух — и скажешь: поэзия! Шуберт, например, сочинял такие песни — "Смерть и девушка". Но к чему это здесь?
Я говорю правду, только чистую правду: Франц слышит Смерть, эту Смерть, и слышит, как она поет, заикаясь, повторяя слова, он слышит ее голос, похожий на скрежет пилы.
— Я принимаю к сведению, Франц Биберкопф, что ты лежишь здесь и просишься ко мне. Правильно ты сделал, Франц, что пришел ко мне. Как жить человеку без Смерти, истинной Смерти, подлинной Смерти? Ты всю свою жизнь берег себя. Беречь себя — такова трусливая заповедь вашего брата — людей. Вот и топчетесь вы на месте. Так дело не пойдет!
Когда тебя обманул Людерс, я впервые заговорила с тобой, но ты начал пить и сберег ведь себя! Потом ты без руки остался, жизнь твоя, Франц, висела на волоске, но, сознайся, ты и тогда ни на секунду не думал о Смерти; все это я посылала тебе, но ты не хотел меня узнавать. И, едва почуяв меня, ты приходил в ужас и убегал прочь. Тебе и в голову не приходило отречься от себя и от своих дел. Ты судорожно цеплялся за свою силу и сейчас еще цепляешься, хотя и убедился уже, что никакая сила тебе не поможет. Всегда наступает такой миг, когда никакая сила человеку не поможет. И в этот миг Смерть не будет тебя убаюкивать ласковой песней и не задушит своим ожерельем. Ко мне надо прийти, ибо я — и есть Жизнь. Я — истинная сила. Наконец-то ты это понял. Наконец-то ты не хочешь больше беречь себя.
— Что? Что ты говоришь обо мне? Что ты хочешь со мною сделать?
— Я — Жизнь и подлинная сила. Я сильнее самых тяжелых пушек, ты понял это и не хочешь больше прятаться от меня и жить в укромном уголке. Ты хочешь испытать себя, познать себя; ты понял, что жизнь без меня ничего не стоит. Приблизься ко мне, взгляни мне в лицо. Ты лежишь на дне пропасти, Франц. Я подставлю тебе лестницу, ты поднимешься и увидишь то, чего никогда не видел. Иди ко мне, вот лестница. Правда, у тебя только одна рука, но ухватись покрепче и лезь, ноги у тебя сильные, ухватись покрепче, лезь смелей! Иди ко мне!
— Я не вижу твоей лестницы в темноте, где ж она у тебя, да и с одной рукой мне никак не влезть.
— Что тебе рука — ты ногами взберешься.
— Я не смогу удержаться! Невозможного ты от меня требуешь!
— Ты просто не хочешь приблизиться ко мне. Погоди, я тебе посвечу, тогда ты найдешь дорогу.
Тут Смерть взмахнула правой рукой, и понял Франц, почему она все время прятала руку за спиною.
— Раз у тебя смелости не хватает идти ко мне в темноте, я посвечу тебе. Ну, ползи.
И в воздухе молнией сверкнул топор, сверкнул и погас.
— Ползи, ползи.
Размахнулась Смерть со всего плеча, занесла топор над головой, вот-вот опустится ее рука, опишет топором круг. В этот миг топор вырвался из ее руки и со свистом вонзился в землю. Но Смерть уже снова занесла руку, и новый топор сверкнул над ее головой.
И этот вырвался, описал в воздухе дугу, вонзился в землю, за ним просвистел еще один, и еще, и еще…
Взметнется топор вверх, просвистит, вонзится в землю, за ним другой, третий. Вверх, вниз, хрясь. Вверх, вниз, хрясь, вверх — хрясь, вверх — хрясь…
Молнией вспыхивает свет, сверкают топоры, свистят, рубят воздух, а Франц ползет ощупью к лестнице и кричит, кричит, кричит. Но назад не ползет. Кричит только. Вот она, Смерть.
Франц кричит.
Кричит Франц, ползет и кричит.
Он кричит всю ночь. Пустился в путь наш Франц. Решился наконец.
Он кричит до зари.
Кричит все утро.
Вверх, вниз, хрясь.
Кричит до полудня.
Кричит весь-день.
Вверх, вниз, хрясь.
Вверх, хрясь, хрясь, вверх, вверх, хрясь, хрясь, хрясь.
Кричит до вечера, до позднего вечера. Наступает ночь.
И ночью кричит Франц, всю ночь напролет.
Он извивается на земле, толчками продвигается вперед. Тело его, как на плахе, и топор Смерти отрубает от него кусок за куском. А он все извивается, ползет вперед, как машина, другого пути ему нет. Взовьется топор, сверкнет и упадет. И кусок за куском отрубает он от Францева тела. Но по ту сторону лезвия — тело Франца живет и не умирает, оно извивается и медленно ползет вперед, все вперед.
Врачи проходят мимо его койки, останавливаются и приподнимают у него веки, проверяют рефлексы, щупают пульс; пульс — нитевидный. Они не слышат его крика, — видят только его открытый рот, думают, что ему хочется пить, и осторожно вливают ему в рот несколько капель жидкости. Только бы его не стошнило, хоть зубы разжал, и то уж хорошо. До чего живуч человек!